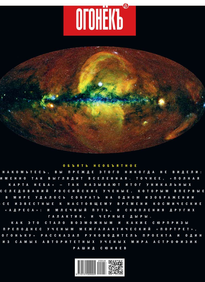Теме будущего России и ее регионов была посвящена львиная доля последних предвыборных кампаний. Предполагается, что, когда выборы проходят, это будущее — от развития территорий до срока выхода на пенсию — остается в руках тех, кому мы отдали свои голоса. Россияне согласны с такой постановкой вопроса: патерналистские настроения в последние годы растут. Однако, как выяснили социологи, образы будущего у власти и населения серьезно расходятся, а значит, патернализм вполне может огорчить несбывшимися надеждами. Какой предстает идеальная Россия «снизу», изучил «Огонек»
Об уникальном социологическом эксперименте, в ходе которого жителей России попросили поделиться их видением будущего своего города, поселка, региона, всей страны, «Огоньку» рассказал Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы «ЦИРКОН», координатор содружества социологов «Открытое мнение».
— Во-первых, он волонтерский, то есть делался энтузиастами — журналистами и социологами — исключительно из личных побуждений: нам хотелось понять, что сами люди способны сказать о будущем, когда о нем напропалую твердят и политики, и эксперты. Во-вторых, мы не давали респондентам заранее подготовленных вариантов ответов. Мы предлагали им вслух поразмышлять всего по трем темам: о том, каким они видят свое личное будущее в 2025 году, каким — будущее города, региона и, наконец, о том, каким они хотели бы видеть будущее страны. В результате мы получали не стандартизированные заполненные анкеты, а развернутые сочинения на тему. В-третьих, мы отошли от привычных критериев социологических опросов, предлагая нашим собеседникам новую опцию — выйти из тени, представиться в ходе разговора, лишившись удобной анонимности. Это был сознательный шаг: нам было интересно не просто «что россияне думают о том-то и том-то», а какие слова о собственном будущем и будущем страны они готовы произнести гласно. Мы делали публичный проект: участвовавшие в нем журналисты региональных СМИ оперативно размещали высказывания наших респондентов на своих ресурсах.
— Такая постановка вопроса меняет меру ответственности за свои слова и, полагаю, должна увеличивать долю тех, кто отказался от ответа на ваши вопросы.
— В общей сложности мы собрали чуть более 300 интервью. Замечу, что около сотни из них все равно остались анонимными, то есть такой вариант — не называть себя — мы факультативно оставили. Уникальность ситуации с этим опросом была не столько в количестве не ответов, сколько в их качестве. Тематика вопросов, которые мы предлагали, была явно универсальной, и с ответами мы людей не торопили: они могли даже написать их онлайн и отослать нам. Но обычной стала такая ситуация: при первом обращении человек говорит: «Да, проект интересный, я обязательно в нем поучаствую». Проходит день, другой — мы напоминаем о себе. Несостоявшийся респондент уже просит: давай чуть-чуть отложим. А еще через некоторое время сообщает: нет, пожалуй, я откажусь. Когда спрашиваешь: «Ну почему?..», выясняется, что причина вовсе не в том, что мы предлагаем себя назвать или вопросы показались слишком интимными (вроде «не хочу выдавать свои планы на будущее»), а в том, что респондент долго и мучительно думал, что написать, и, наконец, понял: написать ему нечего — планов просто нет, сплошная неопределенность. Собственно, про отсутствие долгосрочных жизненных стратегий, про невозможность их выстраивания в непрерывно меняющемся мире уже многие давно говорят. Это фундаментальная проблема, которую выявило и наше исследование.
Россияне — это сплошные ежики в тумане: они живут будто на ощупь. Они отучены думать в категориях развития на 10 лет вперед и дальше.
Вот в советское время вся жизнь человека была буквально пропитана мечтами, планами, «программами построения» и т.п., и в какой-то степени было даже неприлично не иметь своих планов, не представлять себя через много лет. Практически каждый человек в той или иной степени представлял или пытался представить свое будущее. Оно могло быть очень простым: пойду работать на завод токарем, 25 лет отработаю, выйду на пенсию, устрою дочку в институт, она пойдет на завод бухгалтером, выйдет замуж, потом внуки… Но все-таки такой тип мышления — о далеком будущем — существовал, и существовал массово. Сейчас его встретить получается с трудом.
— У вас был еще и третий вопрос — об идеальном будущем. Возможно, россияне, не умея прогнозировать, все-таки умеют мечтать?
— Мы не обнаружили значимой разницы между ответами на второй и третий вопросы. Получилось так: если человек оптимист, то он и возможное, и желаемое будущее видит в розовом цвете. Если пессимист, то желаемого у него, как правило, просто нет или он в желаемом все равно описывает все беды, которые должны посыпаться на страну, если она продолжит жить так, как сейчас. Буквально у единиц вероятное и желаемое диаметрально расходились — как антиутопия и утопия. Это тоже интересный результат. Нашим респондентам сложно увидеть будущее страны, но у них, как правило, отсутствует и альтернативный, идеальный вариант ее развития. Вероятно, эти два обстоятельства, взаимно обусловливая друг друга, обеспечивают некоторую стабильность и спокойствие. Альтернативные варианты появляются в революционные эпохи, собственно они ее и провоцируют.
— А что оказалось проще вообразить: личное будущее или будущее города (региона)?
— Здесь можно привести статистические данные: просто по количеству слов, без анализа их содержания ответы на первый вопрос (про личное будущее) у наших респондентов оказались в среднем в два раза короче, чем ответы на второй или третий вопросы. То есть про личное будущее говорят с меньшей охотой, ведь здесь бессмысленно отделываться штампами и лозунгами, которые в принципе могут быть в фантазиях «за страну». Интересно, что у молодежи, насколько позволяют судить это и другие исследования, появляется принципиальная установка: раз будущее принципиально неопределенно и в нем возможно все, то, соответственно, нужно применять ситуативное (адаптивное) планирование. Люди настраиваются не на построение карьеры, а на «сканирование рабочего пространства», такой «трудовой серфинг», если можно так выразиться: пойду поработаю год-другой там, потом сменю работу, попробую себя еще где-то, потом, может, поеду куда-нибудь поучусь и так далее.
— Кто в ответах людей выступает строителем будущего?
— В ответе на первый вопрос, и это предсказуемо, ответственными строителями собственного будущего респонденты чаще называют себя же. А вот во втором вопросе субъект всех изменений, безусловно, власть. Мы в целом ожидали, что будет мало упоминаться гражданское общество, НКО и прочее. Но чуть более странно, что в качестве субъекта изменений совсем не упоминается бизнес, который вообще-то, судя по ответам людей, сильно влияет на их жизнь: закрывает те или иные производства, ведет вырубку леса или, наоборот, обеспечивает работой весь город. Его как «агента изменений» будто не замечают. Если говорить в целом о персональной ответственности человека за свое будущее, а также будущее региона и страны, то я, опираясь на множество исследований, рискну утверждать, что мера этой ответственности в массе населения снижается. Сами вздохи о том, что мы несамостоятельны и безответственны, слышатся с начала 90-х годов, но тогда казалось, что по мере развития рынка и капитализма человек просто вынужден будет определяться и становиться хозяином жизни. А вот ничего подобного! Задача полагаться на себя оказалась такой сложной, что люди отказались ее решать. Современный молодой человек уже спокойно говорит: от меня ничего не зависит, а потому я свободен от обязательств. И юношу совершенно не смущает, что вся его свобода — лишь в умении адаптироваться, это «свобода отступления», свобода от усилий воздействовать на неопределенность.
— Если субъект изменений — власть, то к какой конкретно власти апеллируют респонденты, надеясь на лучшее будущее для своего региона/города?
— Здесь стоит сказать, что по всем параметрам массив интервью мы изучим только к концу сентября и на текущем этапе строгой статистики того, о чем вы спрашиваете, нет. Однако пока моя гипотеза состоит в том, что уровень апелляции снижается. Вообще, конструктивнее всего россияне смогли ответить на вопрос о будущем своего города или поселения: здесь у них появляется масса предложений, как и что улучшить, как вдохнуть новую жизнь в производство и культуру, заинтересовать молодежь. И множество этих конструктивных предложений — прямо или косвенно — адресуется местной власти. При этом очень редко кто-то прибавляет, что федеральный центр должен помочь нашему губернатору и тогда… Всей цепочки люди не видят, сигнализируют о насущном. Интересно было бы понять, почему уровень апелляции пошел вниз — это ведь циклические процессы. Скажем, в 90-х годах жалобы отправлялись на самый верх — президенту, что естественно в ситуации трансформаций. В нулевые годы адресат обращений понизился в статусе: верхи вроде бы всех стали удовлетворять, люди стали жаловаться на ситуацию в регионах и местным же начальникам. В начале 2010-х опять пошел всплеск наверх: претензии к федеральной власти, ее коррупции и прочему. Если мы теперь вновь на нисходящем тренде, это требуется как-то объяснить. Сказать, что верхи всех удовлетворили, сложно. Возможно, речь идет о разочаровании в нерезультативной апелляции к федеральной власти в течение длительного периода.
— Поскольку в ходе исследования вы получили не просто анкеты, а целые сочинения, хочется спросить: на каком языке люди говорят о будущем — своем и страны? Насколько это «человеческий» язык, а насколько — «телевизионный»?
— Именно вопрос об обыденном языке описания будущего интересовал меня как социолога в первую очередь, когда проект только задумывался. Понятно, что интервью нам дали все-таки люди, уже готовые в какой-то мере к публичности и выражению своей позиции. Приятно заметить, что их речь оказалась совсем не такой заштампованной, как принято думать. Клише там тоже достаточно, но при разговоре о ситуации в регионе люди все-таки остаются в рамках своей обычной лексики: они могут говорить о том, как отремонтировать свой дом и как улучшить жизнь в городе/поселке, одинаково естественно. В этом для меня кроется определенный источник надежды: пусть мы и ежики в тумане, но очертания близких предметов все-таки кажутся родными, почва под ногами не потеряна. Однако, что тоже бросается в глаза, слова респондентов о будущем и слова политиков о том же — из разных языков. Например, по статистике одно из самых значимых слов в разговоре о будущем (не только о своем будущем, но и о будущем города или села) для людей — это слово «дети». Причем о детях говорят не как об «объектах для образования и профориентации», а как о тех, кто продолжит жить на этой земле, продолжит самих респондентов-родителей. Такого обращения к «детской теме» вы не встретите у наших записных футурологов. С другой стороны, люди совсем не говорят о «прорывных технологиях», рисуя ближайшее будущее. Вообще, «технологическая» тема в их интервью, согласно статистике, в разы уступает теме отношений — социальных отношений между людьми, между людьми и институтами. Респондентов интересует, как будут строиться взаимодействия между разными заинтересованными сторонами, а не как будут внедряться новые технологии.
— Этот зазор между экспертным видением будущего и человеческим опасен?
— Если эксперты и политики готовят людям не то будущее, которого люди ждут (даже на уровне приоритетов), то да, разрыв может быть опасен. Есть же такое слово — футурошок: шок от соприкосновения с будущим, которое внезапно наступило. К мыслям о роботизации, радикальной замене старых профессий новыми, резкому увеличению продолжительности активной жизни в совокупности с отказом от привычных социальных гарантий, превращению части территорий страны в «передовые», а части — в заповедники без людей, россияне не привыкли. Если мы и правда хотим, чтобы все это случилось, нужно подготавливать почву постепенно, опираясь на то, что людям близко сейчас. У нас же эксперты, как правило, руководствуются правилом: строить речи о будущем как заумную тарабарщину, чтобы было легче продать их «наверху».
В прошлом году мы проводили один небольшой экспертный опрос по теме «воспроизводства политической элиты». И в ходе опроса сразу несколько экспертов употребили новый термин — «быстрые люди», характеризуя появившийся тип управленцев в стране. Это такие менеджеры, которые ориентированы на быстрый результат на определенном месте: их посылают решать очень конкретные задачи в какой-нибудь регион или отрасль за два-три года. Они почти всегда условно «справляются» и всегда покидают «место происшествия» прежде, чем скажутся последствия их управленческих решений. Что интересно: именно «быстрые люди» часто работают над реализацией стратегических программ развития. Как это возможно? А очень просто: создается целевая программа, скажем, развития регионов на 10–20 лет. На нее сажается «быстрый человек», который за три года осваивает бюджет, и, не предполагая занудно достигать долгосрочных целевых показателей, убедительно показывает, что программа устарела и нуждается в доработке, давая обоснование — «реальность стремительно изменилась». Тут же начинается разработка новой программы на следующие десять лет, и «быстрый человек», не неся никакой ответственности за провал предыдущей, принимается за новое дело, возможно даже в новой области и с повышением. Эта чехарда считывается населением, но если старшее поколение она просто раздражает, то молодое постепенно принимает ее за норму. В этом смысле вопрос о строительстве будущего, развитии территорий начинает восприниматься как устаревший или попросту нечестный, ведь по-настоящему успешен не тот, кто умеет долго и упорно развивать территорию, а тот, кто быстро «ориентируется на местности». И это, конечно, тоже вызов всякому будущему.