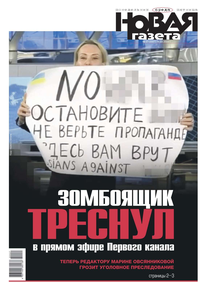Когда-то я отчетливо поняла, что мужчину делают две вещи: серьезное отношение к профессии и нежное — к женщинам.
Про 22 июня 1941 года
«Я родился в небольшом районном центре Бобринце Кировоградской области. И вот в этот день, 22 июня сорок первого года, я взял мяч, и мы с пацанами ушли на окраину города играть в футбол. А когда уже к концу дня вернулись, такие вспотевшие, с потеками пыли и грязи, настоящего стадиона не было, было просто поле, и вот мы после футбола входим в центр городка и видим, что там небывало много людей, такое только на демонстрациях случалось, 7 Ноября или 1 Мая. И голоса вокруг: «Война! Война! Война!», «Немцы напали! Ах, сволочи!»
Я вернулся домой, а мать рыдает… Мой старший брат Илья уже служил на границе, и она своим мудрым умом и жизненным опытом понимала: теряет своего старшего сына… Что и произошло. Илья погиб. — Помолчав: — Конечно, погиб».
Про военное училище
«Я только что окончил девять классов. И вот нас выстроили в школе на линейке и сказали: у кого уже есть девять-десять классов — выйти из строя… Всё!!! То есть нужно было хоть какое-то базовое образование, чтобы одолеть учебу в Саратовском военном училище. Я тоже шагнул».
Про дорогу на войну
«Дорога на фронт длилась долго. Где-то месяца полтора. В поезде мы ехали, в теплушках. Без пересадок, но когда идут эшелоны с боеприпасами, с вооружением, их в первую очередь пропускали, а они шли и шли, а мы стояли и стояли.
Когда мы уезжали из училища, нам дали на месяц сухой паек: ну, там крупа, шпиг… Съели мы все за полмесяца. А добирались на фронт, как я уже сказал, месяца полтора. Ну, вот все едем и едем, все стоим и стоим… А есть-то хочется. А есть уже ничего у нас нет.
На границе Белоруссии и Польши, на полустанках старушки стояли и что-то из еды продавали. А когда в Польшу въехали, там уже «Бимбер» был. «Бимбер» — это водка. На всю жизнь запомнил (смеется): «Бимбер»…
Денег нету, как вы понимаете, поэтому, чтобы купить еду, запасное белье пошло в ход, запасные портянки, запасные носки. А затем уже (опять смеется) променял я и свою шинель… На «Бимбер», да, на «Бимбер»… Знаете, еще теплынь такая была, лето, шинель лежала в стороне…»
Про первую ночь на фронте
«На передовую попал в начале августа сорок четвертого. Вот считайте: август, сентябрь, октябрь… Девять месяцев — чистых девять месяцев! — я был на передовой. Отлучился только по ранению — на две недели в госпиталь. Тяжелый снаряд разорвался рядом, меня ранило и контузило, и я лишился слуха. У меня левого уха нету. Еще первое время что-то там фурычило, а потом совсем им перестал слышать. Ранение было в Германии, это уже март сорок пятого.
Так вот, первая ночь на передовой… Холодно, окоп сырой… И все вправду, как в моем фильме «Риорита»… Сержант мне говорит: «Вы ж так околеете, товарищ младший лейтенант…» И дальше говорит: «Я тут приглядел одну шинель…» Он не сказал, что на мертвом немце эту шинель приглядел… — И после паузы, очень серьезно: — Это было самое страшное, что я ощутил на войне: та первая ночь…
Потом на войне человек ко всему привыкает: к взрывам, к выстрелам… Все приедается, ко всему адаптируешься… Потому что история войны — это и есть история жизни.
Да, это такая теперь твоя жизнь — когда ты каждые пять секунд можешь получить железо в затылок или в грудь.
…Но вот та первая ночь. Мы с сержантом подползли к убитому немцу. А это здоровый был мужик, молодой, но такой очень большой, огромный. Мы подползли к нему сзади, а он как будто замер, и руки вот так впереди себя сцепил. Снаряд, наверное, совсем рядом с ним разорвался.
И весь этот процесс стаскивания с мертвого немца шинели, этот процесс очень долго длился. Мы сначала немца вытащили из траншеи, потом трясли долго-долго, чтобы вытрясти из шинели. А у него успели уже руки закоченеть. Пришлось разводить — это очень тяжело было — его руки в стороны… Потом через голову содрали шинель. И все это время, пока мы стаскивали с мертвого немца шинель, я был в ознобе и страхе. Да, это был самый большой страх за всю мою войну...
Когда тащили немца из окопа, то сержант — за сапоги снизу, а я — лицом к лицу, вот так, под мышку пытался взять, но получалось — прямо вплотную, лицом к лицу… Он, похоже, совсем новенький был на войне, из недавнего пополнения. И шинель на нем была новенькая, английский материал.
Я в этой шинели долго ходил. Почти до самого своего ранения. Вот говорят: плохая примета — с убитого шинель брать, это значит, тебя самого скоро убьют. А меня не убило. Только ранило. Но я-то уже к тому времени в другой шинели ходил.
А в той, с убитого немца, пока не попался на глаза командиру полка и он не сказал: «А это что за чучело? Что за пленный солдатик?»
А до этого никто на меня в шинели с убитого немца не обращал никакого внимания. Другие вообще ходили в телогрейках».
Про артобстрел
«Всякое было: и обстрелы, и бомбежки, и артналеты неожиданные.
Есть сцена в «Риорите», где молодая пара лежит под сгоревшим вагоном. Так вот, и это было со мной. Я попал под сгоревший вагон, и тут начался жуткий артобстрел. Он был еще более жуткий потому, что пули и снаряды бьются о железо вагончика, осколки попадают в металл. Стоит яростный шум-звон. Это не просто взрывы, а взрывы после взрывов. Что-то такое сплошное, непрерывисто-долгое, какое-то бесконечное а-а-а-а-а…
Я, конечно, урылся в землю, лег, инстинктивно закрывая голову руками. Все, что угодно, а голову надо прятать… Это почему-то очень важно было на войне. Что-то такое чисто интуитивное — прятать голову, и все прятали, прятали именно голову, как будто все другие части тела не жалко…» (Смеется.)
Про самых «выбиваемых»
«В своем взводе я командовал пехотой. А больше всего на войне выбивало пехоту. И командир пехотным взводом — это самая «выбиваемая» категория бойцов. Командир взвода должен бежать впереди и звать за собой людей, а командир роты — бежит уже сзади. А командир батальона — тем более: он должен все обозреть. Так вот, повторяю, самые «выбиваемые» — это те солдатики, те младшие лейтенантики, которые бежали впереди всех и кричали: «Вперед! В атаку! За мной!» И мне (вздыхает) надо было бежать и кричать: «Вперед!», чтоб взвод за мной побежал…
А солдаты были много-много старше меня. И это было самое сложное — найти общий язык с ними.
Я воспитан был в своей семье так, что старший тебя по возрасту — это старший во всем. И слушаться надо старшего. А тут меня должны были слушаться.
Старался не ругаться. Не кричать на солдатиков. И как-то найти такое отношение, чтоб они хоть немножко тебя зауважали. Тогда будет все в порядке. Тогда они станут беспрекословно выполнять все. Тогда будут стараться.
И они меня зауважали. Ну, во-первых, им очень понравилось, что я хожу в этой шинели с пленного немца. (Смеется.) Все в этой шинели было обрезано: рукава, внизу полы, ну, это не шинель была, а сплошная бахрома…
Во-вторых, моим солдатикам нравилось, что я на них не кричу, что я тихо разговариваю. И что я — за них.
Вот, к примеру, солдатики мои как-то взяли и разожгли ночью маленький костер и что-то там хотели подогреть. То ли вчерашний суп, то ли добыли чего, они у меня еще те добытчики были… В это время шла инспекционная комиссия, командир полка впереди, за ним — заместители. И они увидели дымочек. Это считалось серьезным нарушением: ночь, а в ночи огонь. Да еще перед сильным наступлением.
В общем, когда началось утром сильное наступление и меня потом представили к ордену Богдана Хмельницкого*, потому что я в том бою корректировал огонь всей артиллерии, то на этом представлении командир полка написал: «Отказать за топку печей в обороне». (Смеется.) А там был такой маленький-маленький огонечек. Щепки какие-то…
Ну, орден тот не дали мне, конечно. Командир полка — это инстанция!»
Награды Петра Тодоровского за войну: три ордена Отечественной войны (два из них — I степени и один II степени) и много медалей.
* Орден Богдана Хмельницкого — один из самых высоких за войну.
Про самое мучительное воспоминание
«Это когда я хоронил своего замечательного друга Юру Никитина, с которым учился в Саратовском военном училище. Я свой первый фильм «Верность» посвятил ему. И своего героя в этом фильме назвал Юрой Никитиным.
Хоронили Юру уже на немецкой земле. Хоронили я и Сережа Иванов из Астрахани, который тоже учился с нами в военном училище. Эта была такая смерть… понимаете… когда убивают кого-то в бою, а ты бежишь рядом, то пробегаешь дальше… тебя практически это не касается… тебя тоже могут убить в любую секунду, это такая жизнь на войне… Не возникает чувства потери. А когда убивают твоего друга, чувство потери возникает…
Замечательный парень был Юра Никитин. Детдомовец. Он еще не познал любви.
Не познал женщину.
Ушел из жизни в девятнадцать лет. Ему бы исполнилось двадцать в сентябре сорок пятого. А он погиб в феврале сорок пятого.
Солдатики помогали нам с Сережей Ивановым рыть могилу. Мы отнесли Юру немного в тыл. Вырыли могилку. Солдатики подтащили два бревна. Сколотили мы потихоньку из этих бревен крест и поставили его на могилу. И написали: «Юра Никитин».
Вряд ли, конечно, это место сохранилось сегодня…»
Про пережитые страхи
«Когда мы уже расставались с моим капитаном Пичуговым, с которым я очень подружился на войне, то обменялись фотографиями. И на своей капитан Пичугов написал: «Пете Тодоровскому — на память о пережитых страхах».
Я вам вот что скажу: человек придуман так, что хочет жить.
У меня был текст:
«А ты знаешь, почему человек боится смерти?» — это один солдатик спрашивает другого. А тот отвечает: «Потому что хочет жить».
Поэтому о страхах что сказать? Страх на войне уходит куда-то в глубину, он есть, он присутствует, но где-то там, внутри-внутри…
Были такие смельчаки, которые ночью выходили из траншеи — именно в тот момент, когда идет стрельба. Они разгуливали на бруствере, просто так, без особой надобности, стреляли в сторону противника. Они рисковали жизнью. Но это что-то чисто нервное. Какая-то такая особая душевная организация: вот ты сейчас или жив, или убит… Да, да, русская рулетка. Я такую «смелость» не понимал.
А у остальных страх был, был… Потому что, повторяю, человек устроен так, что хочет жить… Такая он скотинка, человек — хочет жить».
Про радость на войне
«На войне было все: смерть, несправедливость, бездарные командиры, героические ребята, любовь… Да, была любовь… И радость была. Вот как-то в обороне к нам стали приходить девушки-снайперы. Для них вырывали, выкапывали специальные ячейки. У нас была такая нейтральная полоса — между нами и немцами — сто с лишним метров, и, значит, у девушки-снайпера задача: стоять и ждать, когда немец высунется, высматривать и держать немца на прицеле за той нейтральной полосой. Помню, что это был декабрь сорок четвертого, Польша. И вот можете себе представить: тишина, солдатики в обороне прижились как-то, а тут еще такие замечательные девушки… Ну, вот она стоит, эта девушка, она на работе, а внизу сидят рядом с ней солдатики и смотрят на нее восхищенно-восхищенно… Тут же и шутки, и веселье.
И вот еще радость: если ты попал в госпиталь… (Смеется.) Белые простыни, опять же молоденькие красивые санитарочки… И ты — чистый-чистый. А то вечно ж завшивленный, в одежде жуткой. А по вечерам в госпитале под аккордеон — танцы. Тоже — радость, радость!»
Про плодотворность опыта войны
«Так же опыт войны противоестественен, как опыт сталинских лагерей? Нет, война — это другое…
Лагерь человека превращает в букашку, в ничто, человек там — уже не человек, он подавлен, унижен, ограничен во всем… Нет, на фронте было по-другому. Там ты просто выполнял свою военную работу. И внутри этой работы был свободен.
…Однажды мы долго никак не могли взять одну деревню, немцы сопротивлялись отчаянно, не сдавались. И вот я видел, просто случайно оказался рядом, как ночью командир корпуса бил палкой по голове командира полка и приговаривал: «Если ты завтра не возьмешь эту деревню — расстреляю…» И утром деревня — ценой неимоверных потерь — была взята.
Но это отдельные случаи. А вообще на войне люди были свободные, нет, это не лагеря…
...Знаете, я вспоминаю войну очень часто и… (смущенно, со смехом) светло. Потому что это была молодость. И все как-то очень легко переносилось. И просто, грубо говоря, забывалось. Не накапливалось.
Сейчас Спилберг снимает фильм о войне. Он говорит, что его интересуют не выстрелы, не стрельба, не атаки. Его интересует внутренняя жизнь солдатика. И меня ровно это интересовало всегда. Меня интересовал человек на войне, а не сама война.
Люди по-разному себя вели. Были и трусы. Были и такие моменты, когда надо было солдатика поднять в атаку, чтобы он побежал навстречу огню… Так вот, порой для этого надо было приложить его, солдатика, прикладом по спине. Это было жестко, жестоко. Но как жестока была сама по себе война.
Вот кто ее придумал, войну? Не знаю. Или ее никто не придумывал — она всегда была? Сколько жили люди, они всегда убивали друг друга. Это очень, очень печальная вещь.
А о плодотворности опыта на войне скажу так: конечно, лучше бы этого опыта не было вообще».
Про атаку и спирт и «первачков»
«Перед атакой старшина нес полведра спирта и каждому зачерпывал кружку… Вот идет артподготовка, а старшина обходит солдат и дает кружку — можно сделать глоток, можно два глотка, можно выпить полкружки, можно вообще не пить…
Новичок («первачок» называли) от страха выпивал больше, чем положено, ну, полкружки, например, и после этого он выскочил из траншеи и побежал в атаку… И вот он бежит, бежит навстречу огню, и кричит, и сам себе смелым кажется, и лезет на рожон… и погибает...
Новички, хлебнув лишнего, почти всегда погибали в первой же атаке. А «старички» или вообще не пили, или делали вид, что пьют: пригубил и все. Если чуть-чуть выпил — это помогало в атаке, а если много — губило.
Я пил спирт перед атакой. Но чуть-чуть…» (Смеется.)
Про 9 мая 1945-го
«О, это было потрясающе. Я с любовью вспоминаю этот день. …Мы с боями вышли на берег Эльбы. Непрерывный огонь шел, голову невозможно было поднять. Немцы поставили зенитные орудия — и вовсю по нам… И вдруг все затихло.
Всю эту фронтовую жизнь ты был под прессом, бесконечный гул, стрельба, бомбежки, артобстрелы… И вдруг все тихо, тихо… Да, повторяю, это было так непривычно и так странно… Мы даже вначале не понимали, что это такое — реальное что-то или так кажется… Потом сбросили вонючие сапоги, вонючие портянки и завалились в траву.
Я об этом уже много раз рассказывал, но все равно не могу удержаться, остановиться и перестать про это вспоминать. Вот Сережа Иванов, завалившись вместе со всеми нами в траву, сказал: «Всё! Просьба не беспокоить!»
Это было еще до объявления конца войны. Я заснул в той траве. А потом проснулся и вижу: чудо, вижу его, Сережи, грязная нога торчит из травы, и на большой палец сел мотылек. И я подумал: «Вот это конец войны».
Про почти всю погибшую семью
«Всю жизнь мы писали в разные места, чтобы узнать: где, как и когда погиб мой старший брат Илья. И шестьдесят лет нам отвечали: среди погибших и пропавших без вести не числится. Четыре года назад раздается звонок. Из Коломны. Молодой голос говорит: «Петр Ефимович, я руководитель поисковой группы…» Так вот, тот молодой голос по телефону сообщает мне, что нашел могилу, точнее, то место, где погиб мой брат. Илья погиб 21 января 1942 года. В Новгородской области, в деревне Водосье.
Этим ребятам из поискового отряда местные жители рассказали, что во время войны в ров набросали труппы офицеров, засыпали землей и пошли дальше…
И вот парень из поискового отряда нашел орден. И с этим орденом он сидел в Центральном архиве. Пытаясь найти хотя бы часть, а может быть, и человека, которому бы этот орден мог принадлежать. И в огромных гроссбухах парень нашел: Тодоровский Илья Ефимович… Так что мама не зря сразу почувствовала — Илья не вернется. Папа был более замкнутый человек, он тоже переживал, но скрывал это. Папа преподавал труд в школе, был завскладом, работал в магазине. Потом — на фронте, но на трудовом. Детей в семье было трое: Илья, я и старшая сестра Раиса. И вот мы все писали те письма про Илью, чтобы узнать место, где он погиб… И нам неизменно отвечали: нет, нет, нет… И вот все ушли из жизни: и мать, и отец, и сестра. И когда только я один остался, я узнал, где был похоронен Илья».
После паузы: «За войну наша семья потеряла двенадцать человек. Среди них: в нашем городке расстреляли дедушку и бабушку по матери. Родная сестра отца с мужем и тремя детьми погибла — их раздавил немецкий танк. Они бежали, и их настигла такая смерть. И собственно на фронте погибли мой старший брат, родной брат моей мамы и племянник родного брата мамы…»
И еще помолчав, с горечью: «Немцы успевали в наступлении или в отступлении вывозить — всех до одного! — своих раненых с поля боя и хоронить убитых.
А у нас миллионы незахороненных солдат осталось с той войны. Вот вам пример моего брата. Был себе ров. Побросали солдат. И никак не отметили. Просто засыпали. И случайно старик из той деревни вспомнил, как сбрасывали убитых, и сказал: где-то здесь должен быть…»
* * *
У старшего внука Петра Ефимовича и Миры Григорьевны Тодоровских — Петра Тодоровского — в августе позапрошлого года родился сын. Назвали Ильей. Есть Илья Тодоровский.
Был брат, стал правнук.