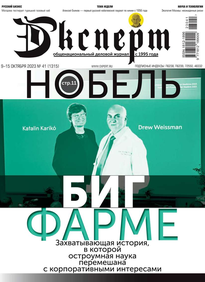Осенью минувшего года десятки выступлений популярных молодежных исполнителей (по большей части работающих в жанре хип-хоп) отменялись в России с неслыханной для постсоветской истории регулярностью. Родительские комитеты и профильные ведомства обнаружили в текстах ряда музыкантов прямую угрозу национальной безопасности и нравственности подрастающего поколения.
В конце сентября в Нижнем Новгороде группа родителей направила обращение местной власти с требованием запретить «деструктивные музыкальные группы». В список вошли Монеточка, Animal Джаz, «Пошлая Молли», Хаски, Feduk, Элджей, Little Big, Face, «Хлеб», Gone.Fludd, Within Temptation, Jah Khalib, Ганвест, HammAli & Navai, The Hatters, Anacondaz и ATL. В их творчестве нашли глумление над смертью, описание каннибализма, пропаганду суицида и насилия, употребления наркотиков и призывы к деструктивному поведению. В итоге несколько концертов были отменены.
Вслед за этим по всей стране зашевелись борцы за мораль в союзе с местными силовыми структурами. По разным причинам — начиная с якобы нечаянно перерубленного провода, обесточившего здание прямо накануне выступления одной из групп, заканчивая прямыми угрозами полицейских владельцам клубов и менеджерам музыкальных коллективов: по всей России отменялись концерты «Френдзоны», IC3PEAK, Элджея, Хаски, Монеточки, Ганвеста, Jah Khalib и Matrang. Конечно, подобное случалось в России и раньше: по тем же причинам отменялись, например, концерты рэпера Face или запрещались «аморальные тексты» группы «Кровосток». Однако на этот раз масштаб оказался беспрецедентным. Впрочем, «наверху» нашлись люди, которые назвали случившееся перегибами на местах и быстро свернули процесс запретов. И хотя президент все-таки высказал свою обеспокоенность проскальзывающей в текстах рэперов темой наркотиков, музыкантов оставили в покое.
Тем не менее осенняя череда запретов концертов — это, конечно, симптом того, что русский рэп становится мейнстримом, причем таким, который задевает нечто живое, предельное и даже запредельное, то, о чем до этого принято было молчать.
Хип-хоп в эпоху изобилия
Популярная сегодня среди молодежи музыка выросла в совершено особенных условиях современной российской действительности, что и обеспечило новым исполнителям не только такую широкую аудиторию, но и резкое неприятие со стороны старшего поколения. До рэпа, пока большая часть текстуального содержания отечественной музыки исчерпывалась гедонизмом и безудержным консьюмеризмом, вопросов к музыкантам ни у кого не возникало. Рок начиная с 1990-х годов ушел на обочину музыкальных интересов и не представлял никакой — мнимой или реальной — угрозы ни для общества, ни для государства: от протестной тематики просто устали, а новое поколение, как и положено, категорически отказывалось слушать то, что когда-то нравилось их родителям. Когда же в отечественное культурное пространство ворвался хип-хоп, родившийся в 1970-е в афроамериканских кварталах нью-йоркского Бронкса, он, как явление для России экзотическое, либо вызывал улыбку, либо просто игнорировался. Однако случилось непредвиденное: то, что казалось легкомысленной модой, случайно занесенной на нашу почву из-за океана, с экзотическими, не укладывающимися в российские реалии проблемами (не было у нас гетто и расовой дискриминации), за одно десятилетие захватила отечественный музыкальный рынок, присвоив себе не только метафизические искания рока, но и блатную идеологию русского шансона.
«Сам по себе хип-хоп, — рассказывает Артем Рондарев, музыковед и культуролог, — очень консервативный жанр. Он, с одной стороны, воспроизводит совершенно привычную для черного “логику вины” белого человека перед его народом за века унижений и притеснений, требуя, чтобы ему дали доступ к благам. С другой стороны, хип-хоп пронизан архаическими смыслами; кровная месть, отстаивание своей территории, защита “своих” от “чужих” — этот родовой миф обязательно воспроизводится любым настоящим рэпером, даже если по факту он уже разбогател». Действительно, в рэпе присутствуют все отсылки к родо-племенному строю: здесь и экстатический танец тела и слов, и древняя языческая ритуальная ритмика, здесь и примат силы, и «этика стыда», и демонстративное расточительство, и жалобные причитания древних плачей. И напрашивается вопрос: а почему, собственно, именно такая музыка оказалась востребованной в России?
Задача поп-музыки — описать жизнь человека, рассказать ему о ней так, чтобы он все понял и прочувствовал. Иными словами, поп-музыка должна структурировать повседневность. И оказалось, что хип-хоп с этой задачей справляется лучше всего. Транслируемые рэпом смыслы — с их явным материалистическим и консервативным уклоном — были созвучны настроениям российского общества первого десятилетия XXI века: эпоха небывалого изобилия, вакханалия капитализма (с ценностями успеха, доминирования, силы) — с одной стороны, а с другой — жалоба провинциального жителя на отсутствие доступа к этому изобилию — все это было у русских рэперов первой волны.
Конечно, уже тогда, следуя законам жанра, в текстах исполнителей проскальзывали агрессивные интонации. Так повелось, что в каждом рэп-высказывании должна присутствовать тема наркотиков, или беспорядочных половых связей, или проповедь архаических ценностей; текст, по возможности, должен быть плотно завернут обсценной лексикой. Однако подобная «деструктивная» тематика все-таки не была мейнстримом. Бодрая бравада о сорванном джекпоте и количестве купленных на него благ или суровая литания о матери, которая дала рэп-поэту то, чего не смог дать ему отец-алкоголик, с ностальгическими вздохами о непростой жизни на районе — вот, в очень упрощенном виде, и весь репертуар.
Любое субкультурное явление всегда оппонирует ценностям большой культуры. Оно заточено на то, чтобы работать с тем, что официально находится под табу. Однако все переворачивается, как только субкультура приобретает значимость в глобальной социальной повестке. Так и произошло. К концу 2000-х хип-хоп в России вместе с общим падением благосостояния населения и нарастанием внешнеполитической напряженности не только радикализировался, но и интеллектуально обогатился, затащив на свою территорию тех, кто до этого от рэпа по большей части дистанцировался: образованную студенческую аудиторию и, частично, средний класс. Именно тогда хип-хоп стал серьезным культурным явлением. Он интегрировался в русскую словесность, перерос грубый материалистический или блатной «месседж», а заодно и наивную тягу воспроизводить созданную на Западе поп-мифологию. Он проник практически во все музыкальные жанры. В нем зазвучали пронзительные экзистенциальные интонации.
За предел
Вычленить конкретную пластинку или песню, которая сыграла решающую роль в превращении русского рэпа в серьезный феномен, невозможно. Конечно, стоит назвать рэпера Оксимирона (окончившего Оксфордский университет, что уже было не по канонам жанра), чей альбом «Горгород» (2015 год) окончательно показал: хип-хоп заговорил на сложном поэтическом языке.
Показательно, что многие поднявшиеся на новой волне исполнители едва перевалили за второй десяток. Сознательности они достигли как раз к тому времени, когда потребовалось дать «ответ» на новую ситуацию в стране. И их популярность показывает, что ответ этот они если и не дали — об этом еще слишком рано судить, — то определенно к нему потянулись, ощутили потребность в нем в разраставшемся вакууме повседневности. В текстах рэперов начинают звучать серьезные темы беспочвенности, метафизической боли, тоски по сакральному. Вот, например, удивительная по своей силе аллюзия к Евангелию в песне «Ни ночи, ни дня» группы «Макулатура»: «Я так долго менял одежды, себя искал / А подлинный я — тот, кто плачет на полу и зовет Христа», и через несколько строк: «Поэт во мне распинает Бога, а потом распинается рядом / И кричит: “Или, или! лама савахфани!” Во царствие твоем меня помяни».
Рэпер Face, который свою карьеру начинал с совершенно гедонистической и бунтарско-юношеской тематики (что-то наподобие «Я курю, и мне ***** [все равно]! Я бухаю, и мне ***** [все равно]! Жру таблетки, и мне ***** [все равно]!»), в 2018 году выпустил остросоциальный альбом «Пути неисповедимы», где среди прочего есть уже и вполне серьезные размышления: «Бог нас не услышит, Бог уже не дышит. / Как тебе живется в твоей комнате в Мытищах?»; или: «Мы никогда не мечтаем, нас ничего не пугает. / Я это всё уже видел, где-то я всё уже знаю. / Сердце страны — это холод, снег никогда не растает. / Молодость — это огонь, и молодость нас обжигает» (песня «Из окна»); последний отрывок — случайный или осознанный кивок в сторону ветхозаветной книги Екклесиаста.
Хип-хоп брал своей искренностью, яростью, головокружительной языковой игрой. Внутри жанра сложились свои излюбленные риторические фигуры, свой вокабуляр, своя топография, система ценностей, в общем — целый мир, появлявшийся повсюду: на улицах и проспектах, в квартирах и барах, на телевидении и YouTube. Хип-хоп прорывался сквозь угрюмый формализм повседневности, крушил стереотипность и безжизненность официального дискурса, покрывал гнетущий рационализм иррациональным опьянением. Внутренняя сила трансгрессивного высказывания, генетически присущая хип-хопу, все более раскрывалась и усложнялась. Вот лишь несколько примеров как раз из списка попавших в опалу исполнителей.
Рэпер Хаски, по паспорту Дмитрий Кузнецов, — выходец из российской глубинки (Улан-Удэ). Приехал в Москву в 2010 году. Поступил на факультет журналистики МГУ. Какое-то время работал на НТВ и ВГТРК. С 2011 года рэпер стал выпускать свою музыку, однако общероссийская известность пришла к нему недавно: в 2017 году он выпустил альбом «Любимые песни (воображаемых) людей», который стал чуть ли не главным событием в современной российской музыке. Мрачное, декадентское высказывание пластинки, навевающее древнерусскую хандру («И моя русская поэзия в подъезде у кента, / Где я глядел во все глазища, но видел лишь одно, / Бесконечные трущобы в бесконечное окно»; песня «Бит шатает голову»), с бесстрашным всматриванием туда — в глубь периферийной России, не могло, попав в самое сердце болезненного разлома социальной действительности, не вызвать масштабный отклик. «Бит шатает голову, голову мою. / А перед выцветшей иконою Господа молю» — здесь и телесный энергизм хип-хопа, и ритмический мотив молящегося аскета, и образ «выцветшей» иконы, который отсылает нас к «выцветшей», но все равно еще живущей в человеке религиозной вере, благодаря которой, несмотря ни на что, он продолжает молиться; пример глубины, до которой может добраться фраза рэпера.
Тексты Хаски попали в составленный разгневанными борцами за мораль список «аморальных групп». Некоторые из них действительно могут шокировать изнеженного слушателя: «Плоть твоя дрожит паутиною капилляров. / Мне описать не хватило б вокабуляра, / Как потроха, извиваясь тигровым питоном, / Раскрывают утробу бутоном» (песня «БэнгБэнг»); или: «Моя страна — бухой ребенок, наблевавший в варежку. / Ей холодно в снегу, и я бензином обливаю, жгу» (песня «Пироман-17»). Но это и есть неизбежная для хип-хопа трансгрессивность нарратива; здесь она обогатилась стихией языка, стала явной, хлесткой, завораживающей и одновременно отталкивающей.
Как писал Мишель Фуко, «трансгрессия — это жест, который обращен на предел». Предел — это вся та сложно устроенная система запретов и норм, которые тут и там расставлены человеком для того, чтобы социальный организм не разваливался, однако за эти предупреждающие «знаки» невозможно не заглядывать. И Хаски заглядывает; словом, он проскальзывает сквозь запрет на артикуляцию низменной телесности человека и предлагает всмотреться в эту «паутину капилляров». Подобный акт по своей природе, конечно, асоциален, но для поэтики хип-хопа — неизбежен.
«Нет никакой морали! / Так и скажи своей маме! / Я всегда бью в ответ! / Шрамы мои — амулет!» — с взвинченной монотонностью читает Анастасия Креслина, вокалистка другой прославившейся этой осенью группы IC3PEAK. Вместе с Николаем (второй участник группы) она училась на переводчика в Российском государственном гуманитарном университете; вместе они решили бросить учебу и стали заниматься музыкой. Четвертый студийный альбом «Сказка» принес им общероссийскую известность, а клип на песню «Смерти больше нет» стал их политическим манифестом: участники группы играют в «ладушки» на плечах у ОМОНа на фоне здания госбезопасности на Лубянке, едят сырое мясо на Красной площади — на фоне Мавзолея Ленина и полушепотом произносят ставшей скандально известной фразу: «Выношу на улицу гладить кота / А его переезжает тачка мента». Пластинка «Сказка» — это дополненная сюрреалистическим видеорядом (смотри клип на песню «Сказка») электроника, с текстами на остро политические темы, завернутые в причудливую древнерусскую эстетику. «Я очень много читала про мифологическое сознание, — признавалась в одном интервью Анастасия, — про сказки, и удивлялась тому, насколько эти архетипы живы в нашем современном обществе, как будто мы застряли в прошлом, особенно глядя на российские реалии».
Тексты IC3PEAK переполнены трансгрессивной тематикой. Скажем, в словах «Вечная жизнь. Я засыпаю в своей могиле. / Сладкая жизнь. Я засыпаю в своей могиле» (песня «Вечная жизнь») снимается традиционное табу на тему смерти, а за словами «Я люблю грязь — это мой кайф. / Улыбаюсь только кусая» (песня «Грустная сука») улавливается не только декадентская эстетика, но и отзвук на мгновение высвободившегося звериного инстинкта, жаждущего «кусать».
Панк-группа «Френдзона», ставшая в этом году невероятно популярной среди подростков (собственно, сам проект прямо на них и ориентирован), пусть и кажется в своих текстах по сравнению с Хаски или IC3PEAK куда более невинной и, прямо скажем, говорить на серьезные темы не собирается, однако все равно работает ровно в том же ключе. «Я вновь царапаю вены, но не станет летальным. / Я навеки останусь стикером в ее телеграме. / Скоро прекратится дыхание, вот тогда полетаем. / Сколько о тебе думал, мой пульс уже не подскажет» (песня «Пурпурное небо») — поднимается запрещенная в социуме тема смерти, отыгрывается популярная среди подростков романтика суицида. А вот и возмутившая многих строка о подростковом половом созревании, растворяющая очередной социальный запрет: «Моя мама думает, я очень чистоплотна, / но душ не расскажет, почему я моюсь долго» (песня «Девственница»). Тематический спектр группы понятен: все, что волнует обычного подростка, начиная с секса и алкоголя и заканчивая школьными дискотеками.
Конечно, вся популярная сегодня у молодого поколения музыка далеко не исчерпывается вышеперечисленными примерами и смысловыми структурами: она говорит не только о запредельном, но также и о «местечковом», «положительном». А есть, например, Элджей, который пока комфортно себя чувствует в старой гедонистической парадигме, совсем не претендуя на глубину послания, пользуясь при этом сумасшедшей популярностью. Тем не менее невозможно не задаться вопросом: как прочитать прорыв именно сегодня такой «деструктивной» музыки в мейнстрим?
Если оставить в стороне понятную социальную подоплеку — кто-то в культуре должен был прямо и без экивоков озвучить растущее общественное недовольство, каждодневное жизненное напряжение и подсознательно сопутствующее ему разочарование, — то ответ, в общем-то, один: русская музыка просто созрела и вышла на простор. Ее частичное олитературивание неизбежно должно было всколыхнуть музыкальный рынок по-новому глубокими, иногда резкими, а для кого-то просто возмутительными высказываниями. Литература всегда давала возможность совершить своего рода легитимное преступление без угрозы быть наказанным. Она не только попирала пределы дозволенного, но и сама становилась символическим пределом, давала возможность заглянуть в лицо жизни и в лицо смерти. Отсюда, кстати, понятно, что любой внешний, заданный обществом или государством запрет — это то, что современной музыке больше всего и нужно; очередной предел, с которым можно работать.
Интересно, что в конце 1980-х в США прокатилась такая же волна запретов на концерты. Закончилась она безуспешно, после чего западное общество выработало систему толерантности, выделив, в частности, в городском пространстве зоны, где хип-хоп-пластинку просто не купить.
Сам же опыт трансгрессии, как правило, оценивается двойственно: заглянув, оставаясь при этом на краю дозволенного, за запрет, можно по-настоящему понять смысл этого запрета или, наоборот, получить травму, неосторожно оступившись; все зависит от внутреннего стержня смотрящего. Конечно, жажда суверенного и ни от чего не зависящего существования в ментальном снятии всех пределов — а во многом это и есть тот опыт, который предлагает своей аудитории современная музыка, — слишком сильна; она, как и необходимость опереться на традицию, почву, моральную норму, глубоко запрятана в сознании каждого человека. Как писал Ходасевич, «счастлив, кто падает вниз головой: / Мир для него хоть на миг — а иной». Этим падением вниз — за край — очаровывал и продолжает Ницше (один из самых читаемых сегодня философов) — с его аристократизмом сверхчеловека, взвесившего и переоценившего все ценности. Примечательно, что и идеал греческой культуры этот мыслитель-«динамит» (как он сам себя называл) видел не в античной классике, а в архаике. В век же повсеместной рационализации и цифровизации, уплотнения и усиления форм разнообразного социального контроля, запрос на сакральную архаику — с ее высвобождающим потенциалом и оскалом одномерному проповеднику стерилизованной жизни — не мог не возникнуть. И хип-хоп оказался здесь как нельзя кстати — с музыкой, которая стесняет приличного.