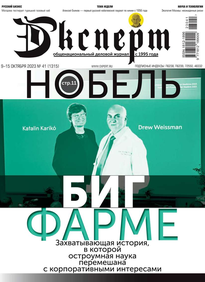«Что, если мы уже заразились? Строгий механический голос по радио постоянно повторяет, что в этом случае мы не должны ехать в больницу. Больницы переполнены. Заразились многие врачи и медсестры. Не хватает отделений интенсивной терапии, не хватает кроватей, не хватает даже масок. Каждый вечер ровно в восемь все — вся страна — подходят к окнам и громко аплодируют медикам. Мы хотим поддержать их и показать, что мы знаем: они рискуют ради нас жизнью».
Этот пронзительный отрывок взят из эссе испанской писательницы из Мадрида, ставшего одним из эпицентров эпидемии коронавируса. Не зная ни времени, ни места его написания, это эссе вполне можно было бы отнести к трагическому двадцатому веку, но никак не к нашему двадцать первому — стабильному, тучному и, как казалось, столь безопасному. Однако пустынные улицы и проспекты мегаполисов, растущие каждый день списки все новых зараженных и умерших, падающие с головокружительной скоростью биржевые индексы — все это, по-видимому, навсегда изменит жизнь человечества.
Четыре всадника Апокалипсиса — Чума, Война, Голод и Смерть — один из самых популярных сюжетов живописи от Средних веков до модерна. В этом емком библейском образе собрано все, чего боялся человек всю свою цивилизованную историю начиная с появления первых крупных поселений в эпоху неолита и вплоть до наших дней. Но, казалось бы, за последние полвека формирующегося глобального мира мы научились жить без стратегических войн — о самой крупной в истории бойне нам напоминают только памятные даты, таблички в образовательных учреждениях с именами погибших выпускников, да печальные памятники в русских деревнях. Конечно, ежегодно в локальных конфликтах по всей планете погибают десятки тысяч людей, но мировым лидерам все же пришлось научиться договариваться. Да, до эффективной системы коллективной безопасности еще далеко, но до третьей мировой еще дальше. Верден, Брусиловский прорыв, Ипр, Сталинград, геноцид и военные преступления Второй мировой — все это, кажется, осталось в прошлом.
В то же время двадцатый век ознаменовался для более или менее развитых стран победой над голодом, и это при том, что хронологически последние его вспышки не так далеки от нас: последний послевоенный голод в СССР застало поколение, родившееся в 1930–1940-х годах. До сих пор количество голодающих на планете превышает миллиард человек. Однако большинство людей худо-бедно в состоянии удовлетворить свои базовые потребности.
Наконец, изобретение сальварсана — лекарства от сифилиса, которое эффективно действует и против других бактериологических заболеваний, использование антисептиков, применение вакцин и открытие антибиотиков, казалось бы, окончательно избавили человечество от последнего всадника Апокалипсиса: эпидемий и чудовищной детской смертности. Теперь же оказалось, что вся наша столь сложно устроенная система миропорядка уязвима и хрупка. Нескольких месяцев хватило, чтобы она рассыпалась под ударами пандемии коронавирусной инфекции.
Из истории мы знаем, что каждая мощнейшая эпидемия меняла характер и модель общественных контактов, вводила в человеческую повседневность новые элементы быта, совершенствовала городскую инфраструктуру и (что, быть может, важнее всего) выписывала очередной кредит доверия государственным институтам, которые, если справлялись с заразой, получали многолетний карт-бланш на любые мобилизационные инициативы. А это значит, что и нынешняя эпидемия внесет коррективы в наш мир. Вопрос лишь в том, каким будет характер этих изменений.
Инфекционные тропы
Человеческая цивилизация, а вместе с ней и история эпидемий, начинается в тот момент, когда происходит переход к производящему хозяйству и появляются первые города. До этого, пока люди жили и совместно охотились небольшими группами, расстояние между стоянками составляло более десятков километров. Не было скученности, и эпидемиям просто негде было разгуляться. Однако впоследствии, в связи с одомашниванием скота, некоторые заболевания стали переходить к человеку, например чума и оспа, и дальше — через постепенное усиление торговых контактов — этим болезням отрылись широкие дороги первых разраставшихся цивилизаций.
В этом смысле показательно, что знаменитая Антонинова чума 165 года н. э. стала возможной благодаря наступлению эпохи эллинизма, своеобразного прототипа современной глобализации. Тогда в Рим заразу занесли солдаты, возвращавшиеся с Востока. То же касается и пандемии «черной смерти» — чумы, выкосившей в середине четырнадцатого века до трети населения Европы. Ее появление и столь стремительное распространение было связано с империей Чингисхана, которая интенсифицировала торговые связи между Западом и Востоком. Сифилис, согласно одной из версий, в Старый Свет завезли моряки Колумба, которые заразились им в Америке.
Возникновение холеры в Европе в девятнадцатом веке — следствие промышленного переворота, который вывел на свет новые способы транспортировки заразы — по железным дорогам и на пароходах. В новейшее время «испанская» и «гонконгская» формы гриппа, названные так по очагу возникновения, разносились по торговым и туристическим путям по всему миру со скоростью, в десятки и сотни раз превышающей аналогичные эпидемии в Средние века.
Нередко эпидемиологические вспышки приводили к государственным и геополитическим катастрофам. В частности, несмотря на все принятые властью меры, Юстинианова чума шестого века поставила Византийскую империю на край демографического коллапса: только население Константинополя тогда сократилось на две трети (ежедневно в столице умирало от пяти до десяти тысяч человек). После этого Византия просто не смогла противостоять напору все более усиливавшегося тогда исламского мира, который счастливо избежал эпидемии, и уже полстолетия спустя после чумы Константинополь потерял все свои владения в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
До того как в Венеции в годы «черной смерти» впервые было сделано первое революционное открытие в области эпидемиологии — карантин, цивилизации мало что могли противопоставить болезням. В той же самой средневековой Европе само представление о том, что такое эпидемия, просто не было. Болезнь, как считалось, передавалась «гнилым воздухом», болотными «миазмами» и якобы затрагивала те слои населения, которые плохо питались.
Не было в средневековой Европе и каких бы то ни было представлений о гигиене. Западные города тогда утопали в грязи и зловонии, поэтому существовало поверье, что наступление эпидемии можно было предугадать по внезапно разносившемуся запаху розового масла или лаванды. Несмотря на попытки известного французского историка Фернара Броделя обосновать наличие в средневековых городах бань и иных объектов социальной санитарии, подобная инфраструктура просто не прослеживается источниками.
Не существовало в средневековой Европе и медицины, даже в ее античном изводе: учившиеся тогда по многу лет на медицинских факультетах студенты изучали Аристотеля и древнеримского медика Галена. Чтобы понять, насколько подобные схолии были далеки от сегодняшних представлений об анатомии, следует вспомнить, что Гален не знал о двух кругах кровообращения, а желудок, согласно его трудам, выполнял функцию «горшка с кашей», то есть переваривал пищу в прямом смысле слова. Однако «открытие» карантина — власти Венеции поняли, что зараза передается от человека человеку воздушно-капельным путем, — привело, с одной стороны, к первой медицинской революции, а с другой — к медленному росту национальных государств.
Чуму встречают порядком
«Некоторые современные государства, как бы странно это ни звучало, являются своеобразным порождением эпидемий; они возникли в ходе борьбы с ними, — замечает Дмитрий Михель, доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин РАНХиГС. — Авторитарные политические режимы, сложившиеся в пятнадцатом-шестнадцатом веках на территории Северной Италии, Франции, Англии и Испании, для борьбы с эпидемиями бубонной чумы решительно прибегали к установлению карантинов и самым строгим управленческим мерам, чтобы обуздать “заразу”. Ни католическая церковь, ни врачи не могли справиться с этим бедствием. Формула, которой пользовалась светская власть, звучала жестоко: “Золото, огонь и веревка”. На золото покупался хлеб, которым кормили население, скрывающееся от инфекции в своих домах. Огнем сжигались “зачумленные” жилища и вещи. Веревка ждала нарушителей законов о карантине. Успехи в борьбе с чумой, которые были достигнуты в семнадцатом веке, подтолкнули светскую власть в последующем более решительно взяться за искоренение оспы, сифилиса и холеры. Поэтому современное здравоохранение как институт возникло во многом из этих решительных государственных мер по борьбе эпидемиями в Новое время».
Действительно, реальные успехи в борьбе с эпидемиями появляются в тот момент, когда в Европе начинают складываться первые государства модернового типа, принесшие с собой систему здравоохранения и медицинского образования. Власти Венеции, изобретя карантин, впервые продемонстрировали эффективность жестких мер, осуществляемых «сверху». Тогда они ограничили въезд в город иностранцев и одновременно содержали тех, кто все же прибыл в город, в изоляции в течение сорока дней. Отсюда и пошло название «карантин», произошедшее от итальянского quaranta giorni, то есть «сорок дней».
Показательна в этом смысле распространенная в Средние века легенда о некоем дворянине, которого преследовал призрак чумы, и, чтобы от нее избавиться, ему надо было крепко-накрепко запереться у себя дома — это аналог нынешней «самоизоляции». Однажды этот дворянин увидел, как рука чумы открывает его засов — и отрубил ее. Он поплатился жизнью, заразившись чумой, зато эпидемия не затронула город благодаря тому, что этот дворянин отрубил ей «руку».
В дальнейшем многочисленные распоряжения правительств о закрытии рубежей от «французской болезни», «морового поветрия» были не чем иным, как мерой предосторожности от проникновения заразы. Эпидемии восемнадцатого-девятнадцатого веков способствовали развитию концепции «просвещенной» власти, которая «заботится» о гражданах, занимается организацией массовой вакцинации, затем — к возникновению гарантированной государством общественной гигиены. Первая волна холеры в Европе привела к тому, что в больших городах стали использовать сливную канализацию вместо выгребных ям — до этого сточные воды без очистки спускались прямо в реки. Постепенно начинают складываться действительно эффективные меры в борьбе с эпидемиями, возможные только при наличии сильной централизованной власти.
Вместе тем помимо реального усиления государства эпидемии привели и к постепенному росту секуляризации и ослаблению папской власти, которая не сумела уберечь свою паству от «губительного мора». Благодаря этому в семнадцатом веке начинаются первые адекватные анатомические исследования. Отказ от схоластического типа мышления, также связанный с неспособностью имеющихся на тот момент научных методов справляться с подобными эпидемиями, в конце концов привел к научной революции и появлению мышления «бэконовского» типа, где начинает звучать оглушительный по своей силе лозунг «Знание — это сила». Возникающая на заре Нового времени фигура Homo faber — практика, не чурающегося физического труда и знающего, как применять технику в научных изысканиях, также, по мнению некоторых специалистов, была обусловлена чумной катастрофой.
Более того, последствия чумы привели и к появлению первого европейского рынка труда, а затем и к постепенной демократизации всей социальной жизни на Западе. К концу четырнадцатого века средневековые города испытывали огромный спрос на рабочие руки ввиду демографической катастрофы, учиненной «черной смертью». Для того чтобы привлечь трудящихся, местные власти пошли на отмену законов о максимуме заработной платы, что привело к возникновению конкуренции: труд был встроен в логику складывающейся рыночной экономики.
На социальном уровне это привело к постепенному закату эпохи феодальной знати, взрывному росту торговли и первой мощной капиталистической волне, которая навсегда оставила в прошлом жестко стратифицированное устройство средневекового политического пространства: иерархия «работающих» и «неработающих» была демонтирована, на ее месте возникли первые модели протодемократического устройства, где высшая власть должна была искать постоянный компромисс между аристократией и разбогатевшим «демосом».
«Чуму встречают порядком, — замечает Мишель Фуко. — Порядок должен препятствовать возможному смешению, вызываемому болезнью, которая передается при смешении тел, или злом, возрастающим, когда страх и смерть сметают запреты… Чума — не общий праздник, а строгие границы; не нарушение законов, а проникновение правил даже в мельчайшие детали повседневной жизни посредством совершенной иерархии, обеспечивающей капиллярное функционирование власти». Именно эпидемии создавали структуры для все более усиливающегося порядка, легитимируя институты власти и контроля в ответ на распространение международных торговых контактов — главных «переносчиков» болезней всех мастей.
Контроль в обмен на здоровье
К каким изменениям может привести нынешняя эпидемия? В первую очередь стоит говорить об усилении государственных контрольных функций. Дело в том, что достигнутые благодаря цивилизационному скачку минувшего века успехи в области удержания миропорядка, обеспечения базовых благ и медицинского контроля привели к беспрецедентному взлету цены человеческой жизни, и это придало новую уязвимость человеческому обществу. Концентрация на ценности человеческой жизни стала своего рода «метаидеологией», общим местом, которое обязаны учитывать все представители мирового сообщества. Каждый человек сам по себе, а не как часть своей социальной страты или нации, находится в фокусе современной элитарной и массовой культуры. Обратной стороной этого же феномена является и то и дело выходящий на поверхность экзистенциальный страх перед смертью.
Именно через эту оптику и стоит рассматривать беспрецедентную в истории сегодняшнюю общемировую самоизоляцию и нарастающую панику в киберпространстве даже в странах, где эпидемиологическая ситуация пока кажется благополучной. Первый «звонок» этой массовой, едва ли не биологической тревоги — опустевшие полки, на которых стояли продукты, относящиеся к категории «благ Гиффена», в первую очередь крупы, спрос на которые растет пропорционально цене. Мощнейшим катализатором выступают и массмедиа: они априори питаются зловещей тенью коронавируса, обеспечивая за счет разразившейся пандемии огромный трафик, который по своей сущности предполагает бесконечное продуцирование эпидемии.
«Для современного общества приемлема только нулевая смертность, даже единицы погибших — это уже катастрофа», — замечает Дмитрий Михель. Действительно, для религиозного сознания, характерного для Средних веков, а также в массе своей и для Нового времени, смерть — логическое продолжение земного существования человека, изменение его «агрегатного» состояния, не более того. Смерть рассматривалась на порядок спокойнее: войны, эпидемии и голод приучали человека к обыденному представлению об умирании.
В современном общественном сознании тема смерти, безусловно, стигматизирована и приводит в том числе к паническим настроениям во время новых волн заболеваний и своеобразному «культу безопасности» и «здоровья». Жизнь стала слишком дорога, ровно настолько, насколько люди готовы отказываться от материальных благ, от развлечений и социальных связей. Именно поэтому самоизоляция приобрела такую популярность, и именно через этот панический страх перед угрозой заразиться открывается первое глобальное изменение, которое может повлечь за собой вспышка коронавируса.
«Не исключено, что в близлежащей перспективе мы увидим усиление надзорных и контролирующих функций государств, — замечает Григорий Юдин, кандидат философских наук, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук. — Это уже активно обсуждают ведущие мировые философы. За эти недели мы вдруг с изумлением узнали, что многие надзорные технологии существует не в качестве возможных, а в качестве вполне себе актуализированных. Что для того, чтобы наблюдать за человеком, причем не только за его перемещениями, у государства есть уже вся необходимая инфраструктура».
Перед лицом угрозы сегодняшний эпидемии и подгоняемое страхом за свою «взлетевшую в цене» жизнь человечество с охотой примет необходимость усиления государственного контроля, пусть даже самого тотального и пронизывающего едва ли не самые интимные стороны человеческой жизни. В этом смысле примечательно, с каким воодушевлением «свободный западный мир» отреагировал на «тоталитарные» китайские методы борьбы с эпидемией. Здесь правительство уже в начале февраля начало активно сотрудничать с платформами AliPay и WeChat, с которыми были разработано приложение, отслеживающее передвижения и состояние здоровья граждан.
Культ здоровья и как можно более долгой жизни с радостью выкупит франшизу всепроникающего надзора, а парализовавшая весь мир паника, усиленная медийной трансляцией, придаст мощнейший импульс государственным институтам, заложив устойчивый тренд на суверенитет и деглобализацию, по крайне мере в сфере политического пространства.
В этом смысле, вероятно, возрастет недоверие к приезжим (в рамках восстанавливающейся средневековой логики «чужого»), что приведет к ужесточению миграционного режима. Об этом давно уже твердят представители правого политического сектора в Европе, которые, следует признать, по «счастливой» случайности получили в свой арсенал мощнейший риторический аргумент в лице нынешней пандемии. Хотя реабилитированный институт изоляции и будет упразднен, как только вспышка коронавируса спадет, однако его абрис еще долго будет жить в глубинных структурах общественного сознания.
Разделенный опыт
Другой стороной описанной выше возможной тенденции может стать социальная консолидация и преодоление индивидуалистической культуры, триумф которой казался непоколебимым все последние годы. Как заметил Эрик Клиненберг,профессор социологии и директор Института общественных наук Нью-Йоркского университета, оценивая в первую очередь американскую ситуацию, «пандемия коронавируса станет концом нашего романа с рыночным обществом и гипериндивидуализмом… Я верю, что мы пойдем в другом направлении. Сейчас мы видим, что рыночные модели социальной организации терпят катастрофическую неудачу, так как эгоистичное поведение делает этот кризис намного более опасным, чем он мог бы быть».
В этом смысле репрезентативным оказался опыт Гонконга, весной 2003 года пережившего эпидемию атипичной пневмонии (SARS), итогом которой стала колоссальная консолидация городских жителей и первая мощнейшая антиправительственная демонстрация. Она была вызвана тем, что местные власти не нашли средств для того, чтобы увековечить память медсестер и врачей, погибших во время сражения с эпидемией. По сути, этот коллективный экзистенциальный опыт перед лицом эпидемии создал гонконгскую идентичность.
«Общие политические судьбы, то есть в первую очередь политические сражения не на жизнь, а на смерть, порождают общность памяти, которая порой спаивает сильнее, чем узы общей культуры, языка или происхождения», — пишет во втором томе «Хозяйства и общества» Макс Вебер. Если перед лицом коронавируса по всему миру произойдет подобная мобилизация, запущенная не сверху, а снизу, то это может привести к глубокому внутреннему конфликту между по необходимости усиливающимся государством и сплотившимся гражданским обществом. А это может создать условия для возращения к подлинной политике, которая вычистит давно уже пришедшие в негодность нынешние квазидемократические механизмы.
Описанное выше явление можно также отнести к понятию «разделенный опыт», который всегда меняет социальную ткань и повседневные социальные практики. Ближайший пример, который оказал сильное влияние на нашу повседневность, — 11 сентября 2001-го. То, с чем мы живем сейчас: камеры в публичных местах, распознавание лиц и прослушивание разговоров как законодательная практика, постоянные досмотры на вокзалах и аэропортах — все это, ставшее для нас «нормальным», было введено в обиход именно тогда.
Точно так же и после этой эпидемии мы, возможно, все чаще будем сталкиваться с обязательными рамками или автоматами для проверки температуры. Будут ужесточены условия для перемещения человека с температурой: нельзя будет, например, прийти на рабочее место, зайти в магазин; такого человека не посадят на самолет, в поезд или автобус. Все это сейчас может показаться странным и необычным, но уже через несколько лет подобные новации станут рутиной.
Новые полномочия могут появиться и у Всемирной организации здравоохранения. Слово «медикализация», использующееся сейчас для описания проникновения медицинских терминов и практик в те области, которые раньше не считались сферой медицины и не классифицировались по шкале болезнь/норма (например, роды, умирание или эмоциональные состояния людей), могут начать применять к политическим процессам и управленческим практикам. Международное сообщество может счесть, что борьба с болезнями требует такого же уровня координации для принятия решений и для их имплементации, какого до этого требовала борьба с терроризмом.
Наконец, существенные изменения могут произойти и в структуре рабочего процесса. Вынужденно апробированные технологии дистанционной работы для многих выживших после кризиса работодателей могут послужить моделью, с помощью которой они попытаются минимизировать свои расходы, переводя большую часть штата на режим работы из дома.
Современные государства оказались перед очевидным выбором — ценность человеческой жизни или серьезная просадка мировой и национальных экономик, показатели которых начали пикировать уже с начала года на фоне нефтяного кризиса. Мир, по крайней мере его развитая, просвещенная часть, выбрал борьбу за каждого человека. Несмотря на все упреки, западный капитализм вслед за китайским показал человеческое лицо. Последний рубеж обороны держат США, и оттого особенно интересно следить за судьбой Дональда Трампа, открыто сделавшего ставку на поддержку экономики, а не на карантин. Но еще важнее обратить внимание на последствия пандемии коронавируса. Цивилизация неизменно реагировала на подобные вызовы в прошлом, что приводило к колоссальным изменениям общества, науки, мировой карты. Если на этот раз человечество похоронит жертв пандемии и продолжит жить по-старому, возможно, эволюционное развитие даст сбой и новые катастрофы окажутся не за горами.