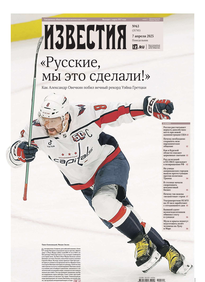В 2017 году выставочная деятельность Государственного Эрмитажа, судя по планам, будет особенно интенсивной. С директором одного из главных музеев России Михаилом Пиотровским встретился корреспондент «Известий».
— По-моему, ничего особенно не изменилось. Да, я 25 лет директор Эрмитажа, но важно отметить, что все директора работали у нас подолгу. Это особенность Эрмитажа, выделяющая его среди многих музеев мира: люди, приходящие сюда работать, либо быстро уходят, либо остаются здесь навсегда.
Я бы все-таки начал разговор со 100-летия революции — и вот в каком ключе: как Эрмитаж может отозваться на этот юбилей, исходя из своей истории и своего пространства? Программа, которая называется «Штурм Зимнего», будет охватывать весь музей в течение года: Зимний дворец, Главный штаб, Дворцовую площадь… Мы вообще, делая выставки, стремимся задействовать разные пространства, взять хотя бы «Манифесту» или Яна Фабра.
В Амстердаме открылась наша выставка «Романовы и революция», которая пройдет и у нас. Экспозиция в Главном штабе, посвященная Эйзенштейну, будет исследовать, в частности, миф о революции, воплощенный на экране и определивший психологию большевиков.
Будут экспозиции, знакомящие с революционным фарфором и пропагандистской литературой. Пройдет выставка, связанная с лазаретом, который действовал в Зимнем дворце. Мы знаем, где здесь была комната Керенского, где находилось Временное правительство, и творчески этим воспользуемся. Выставим также вещи, напрямую с революцией не связанные, например знаменитого Будду Онассиса производства Фаберже из частной коллекции. Но Будда будет у нас символизировать ту, ушедшую эпоху.
Сейчас в Николаевском зале Зимнего дворца выставлены сокровища сервизных кладовых, убранство русского императорского стола — это в каком-то смысле апофеоз мира, который в 1917 году ушел. И то, что в мае в этом же зале откроется выставка Ансельма Кифера (немецкий художник-экспрессионист. — «Известия»), посвященная революции и Хлебникову, который ее предсказал, — это символично.
Кифер Хлебникова очень любит, и я попросил придумать проект, связанный с ним. Кифер, сумрачный германский гений, сам по себе отзывается послереволюционному авангарду. При виде его работ вспоминается Маяковский: «Дул, как всегда, октябрь ветра́ми, как дуют при капитализме»…
— Как бы вы сформулировали политику Эрмитажа в отношении современного искусства?
— В музейной практике есть две позиции на этот счет. Первая: современное искусство — явление совершенно особое, и выставлять его нужно в специальных музеях. Мы нередко слышим претензии — зачем совмещать новейшие работы со старинными артефактами Эрмитажа. Часто аргументом против новейшего искусства служит само пространство города. Мол, Петербург — город классический, так что живите со своими прекрасными колоннами, раз уж ради них приезжают к вам туристы, и нечего изворачиваться, пытаясь вписать в него всякое современное искусство. Что неправильно. Да, Петербург — город-музей, но он также и культурный мегаполис, и живое существо, которое не может не меняться.
Мы придерживаемся второй точки зрения: современное искусство продолжает классику, одно воздействует на другое. И Эрмитаж должен откликаться этому. Наша позиция обусловлена самой сущностью Эрмитажа: он ведь не просто очень большой музей, он — универсален. Здесь представлены античность и восток, христианство и ислам, первобытный период и искусство XX века. Это позволяет увидеть отдельную культуру как часть единого мира, и современное искусство нужно вписывать в этот диалог.
И когда мы выбираем, какой ныне живущий художник может выставиться у нас, не последнюю роль играет, способен ли он войти в диалог с той или иной традицией — и с самим Эрмитажем.
— Ян Фабр прекрасно чувствует фламандских предшественников, однако это не уберегло его выставку от негативной реакции.
— Эти спорные работы с чучелами, которыми Фабр плюет в лицо тем, кто якобы любит животных (а на самом деле закрывает глаза на их гибель), несколько заслонили глубину его выставки. А он заставил иначе посмотреть на знакомые нам картины. Как обычно проходят по залу с «Лавками» Снейдерса (фламандский художник XVII века. — «Известия»)? Не останавливаясь, почти бегом. Даже сотрудники Эрмитажа. А Фабр — остановил, заставил всмотреться.
Мы слышали: «Как можно было пустить его в зал великого Рубенса?» Но не всё так однозначно с «великим Рубенсом». Когда мы делали его выставку в Амстердаме, она была воспринята голландцами довольно холодно. Как заметили в рецензии, выставка прекрасная, но чтобы она понравилась, нужно любить барокко. Рубенс — вовсе не аксиома великой красоты, у него самого немало дразнящего, провокативного.
— Эрмитаж не впервые столкнулся с агрессией в отношении новейшего искусства. Тем не менее можно ли сказать, что реакция на Фабра вас шокировала?
— Начнем с того, что есть разные категории публики. Есть публика, которая пачками пишет письма с призывом меня расстрелять или еще более грубыми предложениями. Никакого отношения к попытке понять выставку это не имеет. Налицо сознательная манипуляция общественным мнением через интернет и использование бренда Эрмитажа для поднятия шума.
Письма написаны, судя по всему, под копирку — и людьми, не имеющими никакого отношения к защите животных. Такими «зоозащитниками» должны всерьез заняться органы, заботящиеся о безопасности в стране. В общем, эту бандитскую агрессивность отсекаем от понятия «публика» сразу.
Другое дело, что Фабр на самом деле — сложный, эпатирующий. Даже тем, кто признает его великим художником, он часто не нравится. И здесь музею важно привлекать людей к диалогу. Я всегда был противником большого количества экскурсий, потому что они мешают сосредоточиться посетителям. Но история с Фабром доказала — необходимо проводить экскурсии, лекции, встречи, выстраивая просветительскую линию.
Музеи рождены эпохой Просвещения, и это символично. Острые вопросы надо обсуждать, их можно даже на крике обсуждать, но нельзя устраивать скандал или, как случилось на выставке Сидура, портить экспонаты.
Инциденты на выставках Фабра и Сидура доказывают печальную тенденцию: люди убеждены, что искусство должно вызывать умиление. «Дайте нам искусства красивенького, без страданий!» Если бы у сидуровского Христа было красивое личико, я уверен, никто не стал бы громить выставку.
— Почему те, кто хотят оскорбиться, так прицельно рассматривают современное искусство? В эпоху Возрождения религиозные образы трактовались куда более смело…
— Вы правильно сказали: те, кто хотят оскорбиться. Сейчас таких очень много. Да, современное искусство дает поводов сколько угодно, но я не удивлюсь, если у нас также потребуют прикрыть античные статуи. Или развести стоящие рядом мраморные обнаженные фигуры одного пола. Если подходить к искусству с точки зрения православных канонов, подавляющее большинство произведений Эрмитажа в них, конечно, не впишутся.
Оскорбить может даже этикетка к картине. Скажем, как обозначить Самарканд? Как узбекский город или как таджикский? Миллионы поводов можно найти. Когда мы готовили громадную выставку по Тибету, то, признаться, боялись, что кто-то устроит истерику по поводу свастики: в древнем тибетском искусстве это был солнечный знак, весьма распространенный. Обошлось. Но в последнее время агрессия в обществе нарастает.
Фокус в том, что музей должен высвечивать конфликты, превращая их в диалоги. Такой музей, как Эрмитаж, имеет право иногда заострять проблемы, высказываться довольно резко, поскольку мы можем выдержать общественные бури. И, конечно, нужно вести ту дискуссионно-просветительскую программу, о которой я говорил.
— После выхода «Франкофонии» Александр Сокуров высказал мысль, что главная задача музея — не столько выставлять, сколько хранить. Вы согласны с этим?
— Безусловно. У музея пять функций: собирать коллекции, хранить, изучать, реставрировать, выставлять. И по значению они примерно равны. Но всё же главное — мы должны сохранить доставшиеся нам артефакты и передать следующим поколениям.Эти вещи не принадлежат ни нам, ни государству.И умный коллекционер говорит: «Я не хозяин, я хранитель этих предметов».
В музее всё должно быть направлено на безопасность произведений. Если картина висит в темном пространстве и человеку плохо видно, но это необходимо для картины — значит, пространство будет темным. Если по правилам пожарной безопасности в музее может находиться не более 7111 человек — значит, эта схема должна выдерживаться.
При этом хранение вещей должно быть максимально открытым. Поэтому мы строим одно за другим здания фондохранилища, где есть публичная зона. Это ноу-хау Эрмитажа: фондохранилища возводятся во всем мире, но нигде их не строили, озаботившись показом фондов.
Внутримузейная жизнь должна быть максимально прозрачна. Кстати, Сокуров предлагал нам завести внутреннее эрмитажное телевидение, которое бы показывало миру каждую деталь того, что происходит в музее (улыбается). Александр Николаевич считает, что это всем безумно интересно.
— Вопрос о Пальмире. В связи с последними событиями изменилось ли представление о том, что там можно и нужно сделать, что восстановить?
— Это вопрос о восстановлении не разрушенных строений, а роли и смысла самой Пальмиры. Нам нужно возродить ее как важный культурный памятник. Представление о том, как действовать в Пальмире, менялось. С началом военных операций нужно было применить силу для освобождения города-символа. Защита культурных ценностей может быть важной военной целью, и в каком-то смысле эту ситуацию можно сравнить с Ленинградом во время блокады. Потом военные изменили цели. Но я надеюсь, они вернутся к прежним.
При всем трагизме ситуации у нее есть оборотная сторона: теперь о Пальмире знают все. Кто раньше знал о ней в мире? Кроме петербуржцев, разумеется, потому что мы с детства слышим, что живем в Северной Пальмире. Разговоры о том, что культурные памятники имеют глобальное значение в человеческой жизни, казались кому-то умозрительными. А на примере Пальмиры мы видим, что, защищая их, люди отдавали свои жизни. Они знали, что экстремисты могут их убить, и всё же не отступили.
— Откуда появляется такое маниакальное желание стереть с лица земли оставшееся от другой культуры?
— Ситуация с Пальмирой поднимает глобальную тему — уничтожение памяти. В данном случае доисламской, языческой. Исторических параллелей очень много: уничтожение христианами античной культуры, протестантами — католической, а большевиками — христианства. Эрмитаж благодаря своей универсальности позволяет смотреть на всё это трезво и доходчиво об этом говорить. Музейная экспозиция может многое рассказать, когда словами особенно не скажешь.
Пальмира находится рядом с Халебом, где есть изумительная мечеть, один из шедевров мусульманской архитектуры. Мне задавали вопрос: а чего вы так беспокоитесь за языческую Пальмиру, а не, например, за исламский Халеб? Много вопросов нужно обсуждать. И именно в музеях обсуждать.
— Не так давно вы обратились к патриарху с просьбой временно отозвать ходатайство о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Но церкви уже переданы и Смольный, и Сампсониевский cоборы. Можно ли сказать, что если процесс передачи Исаакия завершится, будет перейден какой-то рубеж?
— Сегодня у церкви, по существу, нет никаких препятствий для функционирования. Но ведь достигнутое равновесие нужно сохранять, спокойно обсуждая новые вопросы. В свое время мы, Союз музеев России, предлагали мораторий на передачу церкви зданий, в которых располагаются музеи. Церковные иерархи, претендуя на некоторые здания, защищают свою позицию законом.
Может, закон и на их стороне, но торопиться с решением не нужно. Исаакиевский собор был прекрасным примером компромисса в отношениях религии и музея. Нужно было и дальше существовать вместе, обсуждая границы этих отношений.
Ведь Исаакий — не просто храм, его назначение выходит за религиозные рамки. Он в одном ряду с Петропавловским собором, гробницей наших императоров, и Казанским собором, памятником войне 1812 года. Да, это храмы, но совершенно особого значения — это историко-культурные памятники, потому они и не были в управлении Синода.
И почему я обратился к патриарху? Я надеялся перевести ситуацию в русло переговоров и разговоров. Нельзя сейчас разрывать общество еще и по этому поводу. Решение по вопросу передачи собора не стоило принимать так быстро. Нужно сесть вместе, спокойно рассмотреть ситуацию, разобраться. Если церкви необходимо, чтобы Исаакиевский собор все могли посещать бесплатно, то ведь это можно решить иным образом.
А если он всё же будет передан, встает тысяча вопросов о сохранении музейных функций. Будут ли открыты Царские врата? Можно ли будет подниматься на колоннаду? Каким образом сделать, чтобы богослужения не нарушали торжественность памятника? А представляете, сколько сомнительных людей захотят быть отпетыми в этом соборе? Повторяю, Исаакий — не типичный православный храм, и его пространство должно показываться публике.
— Всё чаще озвучивается мнение, что нужно вернуть трофейное искусство; объявляются люди, считающие себя собственниками по праву наследования. Казалось бы, естественная реакция музеев — засекречивать определенные артефакты…
— Вопросов, связанных с реституцией, множество. Действительно, ведутся споры о религиозных предметах и трофейном искусстве, поступают претензии от разных бывших собственников. И споры о коллекциях Щукина и Морозова бесконечны. В контексте этого в музейной среде сохраняется позиция, которую многие поддерживают: не нужно показывать вещи, которые могут стать предметом спора, не нужно вывозить их на выставки.
Но мы считаем, что нельзя препятствовать международным выставкам, и иногда даже идем на обострение скандалов. Мы же бываем в судах и знаем, как защищаться, какие потребовать гарантии, чтобы, например, выставка картин из щукинского собрания прошла в Париже спокойно. Существует система создания иммунитета для выставок, она выработана усилиями музеев — в частности, Эрмитажем. То есть система, защищающая экспонаты от ареста.
Была целая история в США, когда суд решил, что хасидская библиотека должна принадлежать американским хасидам. Выставки с нашим участием были прекращены — на несколько лет. Ввиду этого американская музейная общественность подготовила изменения в законодательство, защищающие российскую собственность от ареста, от каких-либо судебных исков. Эти проекты еще надо внимательно изучать, но это уже большой успех.
Между прочим, противники этого закона расценили его как вторжение России во внутренние дела США. Но ведь смысл прецедента иной: музейщики, как бы ни были напряжены отношения стран, хотят и умеют между собой договориться.
Некоторые убеждены, что шедевры искусства должны находиться там, откуда они исторически происходят. Но этому мнению нанесла сильный удар сама история. Если бы произведения из Вавилона не переехали в Берлинский музей, а из Нимруда — в Британский музей, сейчас от них бы ничего не осталось. Распределение культуры по всему миру спасает ее. Так что с реституцией дело обстоит совсем не так просто.
— Недавно Эрмитаж объявил об обнаружении в своем фонде скульптуры «Виктория Кальватоне» из берлинского собрания. Вы не боитесь сообщать о таких находках?
— Это не находка, это итог сотрудничества с германскими коллегами. Когда мы только начинали показывать трофейное искусство, то преодолевали дикое сопротивление. Возникает оно и сейчас, когда речь идет о российско-германских выставках, включающих трофеи. Понятно, что подобные экспонаты не могут поехать в Германию, потому что их потребуют вернуть, в суд подадут.
Скульптуру Виктории кто-то запрятал подальше в фонды — наверное, чтобы не отдавать, если встанет вопрос передачи трофейного искусства. А сейчас мы договорились с германскими коллегами исследовать ее вместе. За последние годы мы с ними выработали рецепт сотрудничества.
Нужно подчеркнуть, что в музейной сфере у нас с Германией прекрасные отношения. Это при том, что там существует государственное требование вернуть вещи из российских музеев. Но наши коллеги — интеллигентные люди, и, садясь за стол переговоров, мы не предъявляем друг другу никаких претензий. Это бессмысленно. Мы вместе думаем, как сотрудничать в рамках существующей реальности. И этот спокойный диалог сегодня очень, очень важен.
Справка «Известий»:
Михаил Пиотровский — историк-востоковед, доктор исторических наук, генеральный директор Государственного Эрмитажа. Академик Российской академии наук. Профессор, декан Восточного факультета СПбГУ и заведующий кафедрой Древнего Востока. Президент Союза музеев России. Почетный гражданин Санкт-Петербурга. Сын академика Бориса Пиотровского, директора Эрмитажа в 1964–1990 годах.