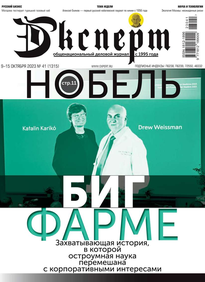За столом, опершись морщинистым локтем на видавшую виды клеенку, сидит Валентина Ивановна. Когда-то — жена контрразведчика. Сейчас — самая пожилая жительница крохотной деревни в тульской глуши. Восемьдесят четыре года. Ее веранда с распахнутой дверью — прекрасный обзорный (командный?) пункт. Все видит. Все знает. Ничего не пропустит. А что ей, престарелой, еле передвигающей ноги, еще делать? Вот и берет на себя те функции, которые для остальных — здоровых и молодых — непозволительная роскошь в короткий дачный сезон: кому чем помочь, где за продуктами кого отправить — а магазин-то неблизко! Как распределить заказы на молочку от фермера из соседней деревни — благо раз в неделю всегда приезжает — тоже ее забота.
Мы знакомы совсем недавно. Оба друг для друга сплошные загадки. Но не торопимся «взломать» все защиты и секреты, а деликатно касаемся и — если не чувствуем отклика — тотчас отходим.
— А что самое главное в жизни? — решаюсь задать вопрос в лоб. — Вот из опыта всей вашей жизни как бы вы ответили?
Секундная пауза — и четкий ответ: «Доброта!». Я продолжаю занудствовать: нет, ну это же все относительно: то, что одному добро, другому, может быть, лютейшее зло, разве не так?
Ее огромные серые глаза становятся еще больше.
— Доброта в отношениях. Под Богом же ходим! Мог, да не помог — а потом до конца дней сам себя грызть будешь. Господи, прости нас, грешных!
По большому счету она и сама живет благодаря заботе других. То соседка принесет свежий кочан салата с грядки: смотри, Ивановна, в этом году ни одной дырочки от гусениц, вот как табачная пыль работает! То проезжающий мимо остановится, выскочит из машины с пакетом — гостинчик бабе Вале передаст. Но если она сама может хоть что-то сделать для других — такого шанса ни за что не упустит. Ее веранда — распределительный пункт благ: и житейских, и душевных, и духовных.
В ее рассказах о том, как жилось во время немецкой оккупации, какие разные судьбы были у тех, кто оказывался предателем, как вечерами собирались бабы и голосили по мужьям и детям, — пронзительны в своей простоте. Я так и вижу, как этот горький плач стекает вместе с вечерним туманом по реке. Ее глаза смотрят куда-то вглубь, за горизонт. «Только бы не было войны, мир, мир нужен!»
Смотря на эту целостную в своем мировоззрении женщину, я вспоминаю слова апостола Павла из Первого послания к Коринфянам: «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого» (1 Кор. 10:24).
— Валентина Ивановна, давайте я вам хотя бы рукомойник куплю и на улице повешу — все удобнее будет.
Сначала это нежелание повысить градус собственного комфорта я списываю на «старческую травматичную установку на доживание». Но скоро понимаю, насколько я неправ. Нет никакого «доживания». Просто жизнь — только скромная, не пафосная, без особых претензий и сверхожиданий. Живет как Бог дает. А у Него руки щедрые.
Гармоничный человек
Ее взгляд возвращается с дальних полей. «Мы — русские!» Надо слышать, с какой твердостью, словно впечатывая каждую букву в сознание, она это произносит. Ей не стыдно за свою бедноту, в которой она живет, — слава Богу за то, что есть! — но в ее словах звучит достоинство такой силы, что диву даешься: откуда? Чем тут, в этой нищете и неустроенности, гордиться? Да и вообще, что может эта старуха дать миру? Что она может предъявить, чем оправдать свою жизнь?
Да, нет у нее коттеджа на морском берегу. Ни высокодоходных акций. Ни ученых трудов. Ни многомиллионных подписчиков в Ютубе. Да и круг ее друзей не политики и бизнесмены, а простые сельские жители и растерянные дачники в придачу. Но у нее есть нечто более ценное: тот самый «мир», о котором мы так часто слышим в Евангелии. Воскресший Христос снова и снова говорит: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам» (Ин.14:27).
Но ведь в еврейском языке мир — очень глубокое понятие, гораздо шире, чем «не-война». В основе слова «шалом» — триконсонантный корень С-Л-М (ש.ל.ם, шин-ламед-мем), что на семитских языках означает полноту, целостность, безопасность, беспорочность, неповрежденность, здоровье.
Однако в любом здоровом организме идет постоянная война: одни клетки распознают входящее извне как «свой — чужой», другие тотчас мобилизуют иммунную систему, третьи бросаются на уничтожение опасных бактерий и вирусов — естественно, ценой своей жизни. А еще есть апоптоз — регулируемое целенаправленное уничтожение поврежденных клеток. И все это благословенный «шалом». И как только эта «мирная война» по какой-то причине останавливается, дифференциация клеток прекращается, апоптоз блокируется — вот тут и образуется раковая опухоль, стремительно пожирающая человека. И это уже самое настоящее «не-здоровье», «не-мир». Для организма тотальный пацифизм — смертоносен.
Гармоничный человек — он всегда «мирный», целостный. Как и апостол Павел, он легко может жить и в нищете, и в богатстве, потому что внутри него есть цельность, есть честь, на страже которой идет постоянное выявление «свой — чужой». Ведь для того, чтобы определиться, «мое» или «не мое», необходимо сначала ясно ответить: а сам-то ты — кто? Есть ли ты сам как субъект — или вся твоя «самость» — сплошное заимствование?
Баба Валя ответ знает. «Мы — русские!» Поэтому она безошибочно может определить: свое — или чуждое. В этой словесной печати — словно знак ГОСТа — заключено все самое главное. Мир с окружающей природой: «раньше-то в деревне только по задам ездили — к домам ногами ходили, пыль чтобы не поднимать!» Мир с людьми, начиная с соседей. «Да какие там заборы? Зачем? Вон, гляньте, три камня на границе участка лежат — и всем все понятно!» Мир с самим собой: «Спасибо, Тебе, Господи, все у меня хорошо. Только вот за некрещеных правнуков душа болит — но батюшка сказал, не надо давить, всему свое время!» И, главное, мир с Богом.
Сдвинутый человек
В какой-то момент баба Валя расположилась и рассказала, какую авторскую (sic!) молитву она читает каждое утро. «Господи! Я благодарю Тебя за спокойный сон, который Ты даешь ночью, ограждая меня своими святыми ангелами. За доброе пробуждение, за то, что я вижу Твой святой мир, за то, что ноги пошли, голова соображает, за здоровье, которое Ты мне даешь, за все благодарю Тебя, мой Отче, только прости мои прегрешения, вольные и невольные, благослови меня на сегодняшний день и пошли мне добра человека!»
Однажды покойный академик Сергей Хоружий в ответ на вопрос, что сегодня происходит с человечеством, ответил кратко и гениально: «Человек сдвинулся!» Условный «позвоночный столб», на котором тысячелетиями держалось тело человечества, вдруг расслабился, растянулся — и пошло-поехало всё в разные стороны. Где сдвиги — там и защемления, значит — боль, крик, дисфункциональность. И никакие обезболивающие не помогут, пока на свое место позвонок не встанет.
Этот глобальный «сдвиг» человечества с каждым годом ощущается все острее. И на фоне тихой истерики владельца айфона по поводу того, что теперь ApplePay не работает, баба Валя выглядит самой настоящей глыбой человечности. С крепким позвоночником. Где каждый позвонок на своем месте.
Любая идеология в первую очередь нацелена на создание Übermensch — как бы его ни понимать. Точнее, не просто «сверхчеловека», а «не-того-что-есть-по-факту-сейчас». Человек как проект. Человек как возможность. Человек как конструктор, собираемый умнейшими головами и хладнокровными политиками. И цена проекта значения не имеет. Хоть тысячи, хоть миллионы других — те, которые в свете грядущего Übermensch так и останутся жалкими недочеловеками. Однако то, о чем говорил Федор Достоевский в своей знаменитой Пушкинской речи — о «всечеловечности» русских как способности принимать любого во всем многообразии, — не есть нечто «привносимое» в природу нашей души. Все это уже есть — нужен лишь небольшой луч солнца, чтобы бутон раскрылся.
Русский человек склонен задумываться над «проклятыми вопросами» — только вектор у него обязательно будет выходить за границы проблем личного бытия: это не столько вопрос «зачем я живу?», где главное ударение делается на «живу», сколько вопрос «зачем я?» — и фокус на «зачем»? Не отсюда ли рождается глубинная интуиция русской души, которая требует, буквально «выталкивает» в то, что именуется «мессианством»? Но, смотря на Валентину Ивановну, останавливаешься: стоп, какое тут мессианство? И в то же время понимаешь: а ведь оно есть!
Философски сформулированная антифилософия
Главный вопрос «мессианства» — спасение. Кого и от чего? Да, и еще: за счет чего? Петр Чаадаев в своем «Первом философическом письме» (1829), из-за которого они и был объявлен сумасшедшим, с болью сердца пишет: «Ни у кого нет определенной сферы деятельности, нет хороших привычек, ни для чего нет правил, нет даже и домашнего очага, ничего такого, что привязывает, что пробуждает ваши симпатии, вашу любовь; ничего устойчивого, ничего постоянного; все течет, все исчезает, не оставляя следов ни во-вне, ни в вас. В домах наших мы как будто определены на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похожи на кочевников, мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам. И не подумайте, что это пустяки. Бедные наши души!» Одним словом, все очень плохо. И с точки зрения общества потребления жизнь бабы Вали — просто беда.
Но тут же, у Чаадаева, в конце письма мы читаем: «Мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его». Парадоксальным образом все то, что для Петра Яковлевича представлялось однозначным минусом — особенно то, что «в крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс», — на поверку временем превращается в существенный плюс.
Главное напряжение, которое тонко уловил Чаадаев, лежит вовсе не в сфере культуры или рациональности. Разница в укладе жизни, в самом подходе к ней. «Запад» сначала думает, потом — осуществляет планы. Русский живет, повторяя снова и снова фразу: «Поживем — увидим! Как Бог даст!» Россия и «Запад» — своего рода шифры для обозначения фундаментального вопроса об универсальности мышления и культуры. И если для «Запада» его истина общеобязательна, однозначна и рациональна, то Россия — о другом. Когда «Запад» говорит: сначала нарисуем, а потом по этим чертежам все построим и заставим именно по ним жить, то Россия, улыбаясь, говорит: «Было гладко на бумаге, да забыли про овраги! Поживем — увидим. А там и нарисуем!»
Интенция, которой верно следует русский народ веками, вполне созвучна христианскому учению о глубинной поврежденности человеческой природы после грехопадения: проблема человека не в том, что он что-то недопонимает или вообще неправильно, нелогично мыслит. Качество мышления и уровень философской рефлексии для русского вовсе не определяет качество жизни как таковой — она сама для нас и есть первичная, базовая ценность. Причем это качество измеряется не обилием житейских благ или ступенями карьерной лестницы и даже не семейным счастьем. Оно определяется простым словом «лад»: тот, кто в ладу с Богом, окружающими, природой, историей, — у того и жизнь ладная. Христианские заповеди не являются утонченными гносеологическими открытиями: в них особо-то и анализировать нечего. Их надо просто выполнять, а не рефлексировать над ними. Проблема человека в том, что живет он плохо. А потому и мыслит худо. И мы подходим к очень важной стороне: связи «делания» и «бывания».
Тип «человека-головастика», с распухшей от идей головой и хилым тельцем, органически не близок русскому. Герои наших былин и сказок, любимые образы святых далеки от изысканного интеллектуализма. Нет, они вовсе не безумны, скорее над-рациональны — иначе как понять, с чего это вдруг Илья Муромец, 33 года провалявшийся в параличе, вдруг становится обладателем «непомерной силы богатырской?» Но во всех героях есть одна общая черта: они «сильны духом».
Как метко выразился Борис Гройс, «в известном смысле русская философия есть философски сформулированная анти-философия». То, что так искренне возмущало Чаадаева, уже в глазах славянофилов оказалось едва ли не главным преимуществом русского перед европейцем: та самая «неопределенность», «непривязанность» открывала двери подлинной универсальности — доброжелательного принятия без поглощения и без растворения. Феномен многонациональной и поликонфессиональной России, где «русский» — это прежде всего определенный «стиль жизни» и «стиль отношений», а не нация и не религия, можно понять только из этой универсальности пресловутой «неопределенности».
В беседе с Никодимом Христос говорит: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Ин. 3:8). Но никакое дыхание — в том числе и Духа — невозможно без простора той самой «неопределенности»: в тисках строгой рациональности и управляемости дыхание Духа невозможно. Как об этом сказала Марина Цветаева:
О, его не привяжете
К вашим знакам и тяжестям!
Он в малейшую скважинку,
Как стройнейший гимнаст…
Для избыточно рационального человека, привыкшего планировать и все контролировать, любая неопределенность — требующий устранения фактор риска. Русский же постоянно балансирует между «авось пронесет» — и «делай, что должно, — и будь, что будет!» Мучение неопределенности преодолевается только верой. И именно в религиозной вере масштаб неопределенности, которую способен вынести человек, становится космическим.
Жертвенность, готовность ради блага другого поступиться своими интересами, для внешнего, не-русского, сознания зачастую воспринимается с искренним изумлением. Но дело здесь не только в «широте» и «доброте» русского человека. Корень значительно глубже, в религиозности, точнее в качестве религиозной веры как таковой.
Душевные муки русского человека, порой шокирующие иностранца, — это именно мучительное восхождение Авраама с Исааком на гору, где нож отца должен забрать жизнь у любимого сына — только потому, что так повелел Бог, Который и дал Аврааму этого единственного ребенка. «Так долго строить храм и сжечь за миг лишь может тот, кто этот храм воздвиг» (А. Васильев). И эта сквозная тема русской истории отражает не столько драматизм русского духа, сколько неизбежность боли при каждом рождении чего-то нового. Потому что только человек с очень глубокой верой, с огромной силой Духа может идти путем Авраама, который не понимал, какой вообще может быть выход из явного тупика, но был уверен: Бог силен и из мертвых воскресить Исаака (Евр. 11:19). И поэтому нож был крепко сжат в его руке.
Построить, разрушить и снова построить
Однажды я привел в храм Христа Спасителя одного очень близкого друга — грека, впервые приехавшего в Россию. Он долго ходил по храму, разглядывал росписи, мраморный пол, иконостас — и, к моему удивлению, не проронил ни слова. И только когда уже мы довольно далеко отъехали от храма, сказал: «Оказывается, какие вы интересные, русские. Вот мы, греки, трижды обещали Богу построить такой же храм-памятник в честь наших побед. Но так и не построили. А вы построили, разрушили и снова построили!»
Русский мессианизм — он не о власти, а о правде. Той самой «правде Божией», которая находится в постоянной и непримиримой борьбе с «кривдой», распластавшейся по миру («Голубиная книга»). Отсюда и вдохновение революционных мотивов — пусть и через отрицание традиционной религии как таковой. Так «Правда Божия» — популярная в начале ХХ века газета, издававшаяся священником Григорием Петровым, — перерождается в рупор Коммунистической партии Советского Союза, но уже без религиозной атрибуции: в «Правду». В которой, как мы знаем из старого анекдота, «нет известий». Но их там нет не потому, что редакция халтурит: просто Правда — даже в коммунистическом понимании — она все равно над-мирная, трансцендентная новостному потоку.
Феодор Достоевский в Пушкинской речи 1880 года очень точно сформулировал главный запрос русской души: «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только… стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите… И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, всеобщей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону».
Вот почему борщ, внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО, перестает быть продуктом питания: борщ — он для желудка, а не для списка. Для русского сознания такой ход был бы полным отказом от своей идентичности. Ведь там, где borshch copyright© all rights reserved, — это уже совсем не о еде. Диктатура борща «из списка ЮНЕСКО» — печальный симптом процесса превращения нации в симулякр. Ровно такой же, как и любой национализм, в том числе и русский, эта импортированная с Запада утопия культурной идентичности.
У Валентины Ивановны нет проблем со своей идентичностью. Она ее не ищет — она в ней живет. И борщ у нее — отменный. Впрочем, как и все остальные блюда, которым она научилась во время командировок мужа по республикам Союза и далеко за его пределами.