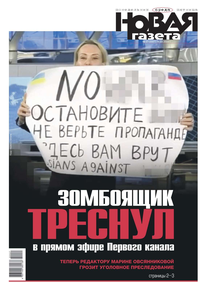Москва спустя сто лет будет выглядеть так, как спланирует ее Собянин.
В XIX в. при императоре Наполеоне III мэр Парижа барон Осман перестроил Париж. Он снес кучу тогдашних парижских фавелл и заменил их нынешней системой бульваров. (Злые языки говорили, что это было сделано для быстрой переброски войск ввиду тогдашнего пристрастия парижан к революциям.) И сейчас Париж — это Париж Жоржа Эжена Османа. Точно так же
Эта деятельность Собянина по реструктуризации общественного и частного пространства Москвы рождает дикое неприятие.
Каждую неделю я езжу по городу на такси (спасибо Собянину) и каждого таксиста я спрашиваю: «Как вам мэр?» Больше половины начинают нести его со страшной силой: «не проехать», «весь центр разрыли».
«Простите, но у вас в квартире во время ремонта тоже бардак», — удивляюсь я. «Ну, это другое дело».
Я долго думала, почему такая ненависть. Мой добрый друг и главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов в своей нашумевшей год назад статье предложил объяснение: креативный класс ненавидит Собянина за то, что он превращает Москву в европейский город, в то время как право на такую метаморфозу имеет только сам креативный класс после победы над кровавым режимом.
Но мне кажется, что объяснение еще проще. В общем и целом оно сводится к абсолютной неспособности большинства россиян к долгосрочному планированию и тотальной атрофии того самого чувства «общественной пользы», которое нам вбивали в совке в головы молотком. Нам отрезали это чувство пользы и приставили костыль. После кончины СССР костыль отобрали, а отрезанное обратно не выросло.
Значит, можно разворовать и загадить. Колхоз существует для того, чтобы воровать у него удобрения для собственного огорода, а трактор — чтобы ездить на нем за водкой.
Именно так в конце правления относился к городу мэр Лужков. Каждый метр общественного пространства при нем существовал для того, чтобы выстроить под ним еще один подземный торговый центр, обрушивающий всю городскую логистику и создающий в центре гигантские пробки.
Я помню, как менялась моя родная Малая Бронная: любая будка во дворе приватизировалась и на ее месте вырастал восьмиэтажный элитный комплекс без подземных парковок. В мгновение ока улица вместо трех-пятиэтажной застройки получила семи-восьмиэтажную.
«Мерсы» и «лексусы» обитателей комплексов стояли тут же, на улице; нагрузка на все существующие сети — транспортную, электрическую, канализационную — только возрастала, и все убытки несли мы с вами, а вся прибыль поступала в карман строителя.
Получение любой справки в ЖЭКе оборачивалось многочасовым унижением, зато возле метро в нарушение всех мыслимых норм возникали торговые фавеллы в три этажа, не платившие никогда ничего никому, кроме взяток префектам.
Москва, которая и так-то никогда не была европейской столицей (таковой был Санкт-Петербург), стремительно превращалась во что-то вроде Каира или Бомбея — загаженную, застроенную мегадеревню третьего мира.
Городская среда стала зримым, физическим выражением эпохи раннего российского капитализма: в том смысле, что город, как связное целое, перестал существовать. Общественное пространство представляло собой убогую загаженную среду, от которой надо оградиться тонированным стеклом автомобиля.
Каждый, кто передвигался по этому общественному пространству пешком, был лох и лузер: он прыгал через лужи, огибал припаркованных монстров и быстрыми перебежками нырял в метро.
Когда при Собянине московские власти пригласили знаменитого Яна Гейла, создателя пешеходного Копенгагена, то оказалось, что москвичи передвигаются пешком меньше, чем жители любой западной столицы. Причем особо на улице отсутствовали дети и старики.
Даже метро в городе при Лужкове перестали строить: зато Батурина стала миллиардершей, что не мешало мэру быть популистом и рассказывать, как он расправится с олигархами, грабящими страну.
И это было нормально в нашей стране.
Это москвичей не оскорбляло.
Москва, которая вдруг впервые стала единым градостроительным целым. Бульвары, превратившиеся в сады, Тверская, которая снова стала улицей, а не шоссе, Новый Арбат, который засажен зеленью, а не заставлен машинами, Малая Бронная, которая снова стала вдруг рассчитана не на бандита в «лексусе», который паркует его поперек тротуара, а на деда со внучкой, которые по тротуару гуляют, — все это вдруг до невозможности стало оскорблять москвичей.
«Воруют!», «Верните нам наш троллейбус!», «Почему я теперь не могу бросить свой «форд» посреди улицы, как я это делал последние двадцать лет», и, любимое, — «опять весь центр перекопали!».
Потому что когда станет лучше, россиянин даже не вспомнит, что было по-другому. Окажется, что так было всегда. Собянин? Причем тут Собянин? Оно само выросло.
Первая содержательная претензия к Собянину такая: он повсюду строит, кладет плитку, убирает под землю кабели, сажает деревья. Все знают, что в России раз строят — значит, воруют. «Живут, — утверждает мой добрый друг Пархоменко, — растаскивая московский бюджет и организуя на этом совершенно безумном уровне и реновацию, и ремонт, и все остальное, на что мы так возмущаемся обычно».
Кипучая деятельность мэра в такой логике становится наглядным доказательством воровства.
ОК. Объясняю.
Вся грандиозная строительная деятельность этого и прошлого лета — все эти перерытые бульвары, переложенная плитка, дорогие деревья — идет из трат на ЖКХ. Траты на ЖКХ в Москве со времени Лужкова почти не меняются. Тогда тратили 17% от бюджета, теперь тратят — 15%.
Вы спросите, откуда ж взялись деньги? Очень просто. Раньше все эти деньги — около 42 млрд руб. в год — уходили на субсидии десяткам коммунальных контор. Половину за ЖКХ платили жильцы, а другую половину субсидировал город. При этом тарифы росли в год на 15—20%. Сейчас они в год растут на цифру инфляции.
И у меня вопрос: почему те, кто кричит «караул!», «воруют!» — когда на эти деньги что-то строят, молчали, когда эти деньги спускались в сортир?
Неужели только потому, что Собянина — в отличие от Лужкова — ругать безопасно?
Мне, знаете, как-то не жалко: раскаленного, парящего летом асфальта, торговых трущоб, засыпанных мусором, и пешеходов, шныряющих тропками мимо железных коней.