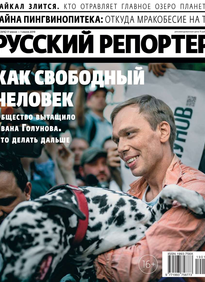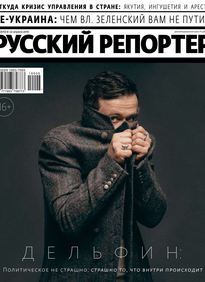ТОП 10 лучших статей российской прессы за July 4, 2017
Исихазм и Солярис
Автор: Марина Ахмедова. Русский Репортер
Почему фантастика — обычное дело. Если ты как ребенок
В Свердловской области есть монастырь, куда за причастием и общением сбегаются почти все окрестные дети, даже непростые подростки. Монахи помогают деревням и школам выжить и вместе ставят спектакль по «Солярису». Автор педагогического чуда, отец Петр — игумен монастыря со строгим и мистичным «афонским уставом» в Верхотурье. Много лет назад, когда «РР» был совсем молод, авторы текста и фотографий этого материала делали репортаж из Ново-Тихвинского женского монастыря, где отец Петр был исповедником (см. «Праздник послушания», «РР» № 49 (79) от 24 декабря 2008 года). И вот новая чудесная встреча: это время все прошли большой путь
— Разрешите нам в храме быть сегодня. Но если не разрешите, мы побудем на улице, — подросток отворачивается.
За ним стоят насупившиеся дружки. Из открытой двери церкви тянет теплом и воском. Оттуда доносятся детские голоса. Дверь закрывается.
Над семиглавой деревянной церковью висит рожок месяца. А во все четыре стороны, по степи, по ельникам, ложится темнота. Глухо и тихо тут на уральском отшибе. Тура затаилась под высоким берегом. Только слышно, как щука с тяжелым всплеском дважды переворачивается в воде. Здесь на камне, заступающем в Туру, ловил рыбу Святой Симеон. На том же камне молился, встретился с демоном, сразился с ним, победил. И демон, единожды побежденный человеком, больше не имеет власти на этом месте. Дверь церкви открывается.
В церкви дети толпятся у церковного прилавка, спят на скамейках, стоят со свечами. Дети-певчие клюют носом над молитвенником. А несколько взрослых скромно стоят у входа, не желая смущать детское царство. Подростки усаживаются на лавке в самом темном углу. Из алтаря выходит священник в черном. Сейчас начнется служба.
— Почему он белый? — спрашивает священник, протягивая на руках подризник. — Потому что Господь чист и светел душою.
Дети подают ему поручи, епитрахиль, пояс. Он целует его.
— Что означает пояс?
— Христа связали… — отвечают дети.
— Я также связываю себя, — надевает пояс и принимает из детских рук фелонь. — Жил один философ. В общем, он проповедовал, что Бога нет… — священник умолкает, заметив в углу подростков. — Вставайте, подходите ближе, — зовет их.
Переглянувшись, бросив косые взгляды по сторонам, те приближаются к алтарю.
— Но в детстве тот философ был очень верующим мальчиком, — продолжает священник. — Однажды он играл со спичками и прожег ковер. И понял — сейчас родители увидят, и он будет наказан. Он стал эту дырку закрывать, и вдруг почувствовал, что Бог его видит. Люди не видят, но Бог-то видит. И что он сделал? Он разразился обзывательствами на Бога. И после этого почувствовал, что Бог ушел. Но ушел-то Он внешне, а внутри, мальчик чувствовал — Бог есть. И тогда он прогнал Бога и из себя. Странно? Но логично. Мальчик почувствовал себя свободным. Может, ему хотелось плохо себя вести, прыгать, как обезьяна, а Бог ему мешал, совесть не позволяла. Вот когда люди делают над собой насилие и начинают Бога ругать, — в голосе священника слышится детское изумление. — И Бог отвечает: «Хорошо, хорошо…» и уходит. И когда тот человек говорит, что Бога — нет, то он не лжет! Он говорит правду! Для него Бога нет. Он же его прогнал… Господу помолимся… — несильным голосом заводит священник.
Пульсируют в темноте яркие огни свечей. Кажется, позолота на иконах вот-вот расплавится и потечет. Под потолком в большом паникадиле мерцают красные, синие, зеленые свечи. Паникадило похоже на корону с драгоценностями. Детские голоса берут ноты, с которыми не могут справиться. Скрипят деревянные полы. Подростки забирают из рук младших большие свечи в пластмассовой подставке и стоят полчаса, час. Самым маленьким сон залепляет веки. И так проходит время.
— Я сейчас хочу дать вам почувствовать… Бога, — наконец, говорит священник, держа в одной руке на весу колокольчик, а в другой — золотую палочку. В этом храме сейчас… Машенька, Лизонька, Катенька, присутствует Дух Святой. Мы можем его почувствовать, а можем — нет. Каким органом мы его чувствуем?
— Сердцем! — отвечают дети.
— Серд-цем… Сейчас на счет три я ударю в колокольчик. А вы должны на минуточку замереть, замолчать, не шевелиться и внутри молиться каждый по-своему, как может. Сейчас таинство на престоле не совершилось еще. Оно свершится через несколько минут. И не только от меня, а от каждого из вас зависит, свершится ли оно. Приготовились? Раз… два… три…
Церковь замирает. Подросток, несколько часов назад стучавший дверь, закрывает глаза. Свет свечи мечется по его лицу. Все, что иконы держат в руках, становится выпуклым. Искрятся хрустальные ангелы на полках. Детское дыхание мешается с духом церкви, стоящей на отшибе угла мира, на берегу, где рыбак победил демона. И первое как будто становится необходимым условием для такого явного проявления второго. Дзинь. Дети открывают глаза, и, кажется, ради этого одного мига волшебства они ехали сюда на велосипедах из деревень, стоящих в десятке километров от одинокой церкви.
— Один батюшка однажды говорит: «Поднимите руки те, кто считает себя достойным причащения», — продолжает священник. — И вы знаете, кое-кто поднял руки! А он им: «А вот вас сегодня я причащать и не буду». Как вы думаете, почему он так сказал?
— Из-за гордости их! — отвечают дети.
— В чаше — Христос. А куда он входит — в желудок, в легкие?
— В сердце!
— А если человек гордый и всех презирает, — проповедует детям священник, — Господь только дверку в его сердце приоткроет, но не сможет зайти. Вы бы тоже не смогли зайти в дом, где живут злые люди… А теперь и маленькие и большие могут подойти ко мне, но только если они искренне хотят, чтобы Господь вошел в их сердце.
Подростки встают последними в очереди. За окном занимается ранний оранжевый рассвет.
— Я сначала не понял даже! Не поверил. Вчера детей исповедую, и тут ко мне подходят и говорят: «Там ребята просятся в храм… Не пустите — на улице останутся». Они не приходили раньше, эти ребята привыкли к тому, что их отовсюду гонят. И тут они почему-то подумали, что их и в церковь не пустят… Но они сами делают все для того, чтобы их не любили. Проявляют дерзость, грубость.
Отец Петр умолкает. И сразу становятся слышны птицы за окном, полощущие горла дождевой влагой. Четыре часа утра. Монах, только что отслуживший «детскую литургию», снимает с головы черную скуфью, кладет ее на стол и задумывается или прислушивается к груди, наклоняя к ней ухо.
— Но вчера эти подростки проявили такое смирение! Вот этот бандит с дружками пришел! Для меня загадка, для чего они решили вчера в церковь прийти? Я вообще не могу понять всех этих детей! Присматриваюсь: зачем они мучаются, засыпают, спят стоя? Может, для них это просто развлечение какое-нибудь? Я, наверное, допустил ошибку, пустив детей на службу! Ведь такого нету нигде, чтобы дети служили службу.
Тучные облака расстилаются над землей. Белеет уже мужской монастырь, его тоже видно из окна. Вход в него наглухо заперт железными воротами, над ними — недружелюбный крест. Дети этой деревни только что вернулись из церкви и улеглись спать. Из-за монастырского забора в мир деревни не проникает ни звука, но что-то заставляет чувствовать: там жужжит жизнь. Отец Петр — настоятель этого монастыря. Он встает, берет со стола скуфью, водружает ее на голову, подходит к окну и сквозь тюлевую занавеску смотрит на пробуждающийся мир.
— Я просто понял одну такую вещь в педагогике, — говорит он. — Существует зона ближайшего развития. Представьте: взрослому говорить о серьезных вещах поздно, он в своей жизни дров уже наломал, а детям говорить о взрослых вещах рано — в них ум еще не проснулся. Зона ближайшего развития — это говорить ребенку труднопонимаемое, но понимаемое. Мы с детьми собираемся ставить спектакль. Я пишу сценарий для него. Вы позволите мне вечером вам его прочесть? «Планета снов» называется. По «Солярису». Да, фантастика… А когда ложь бывает правдой? Когда ты подаешь выдумку как выдумку. Притча — это фантазия. Христос говорил притчами. Мысль там такая: герой Крис чувствует голос в самом начале спектакля, голос зовет его. В конце он понимает, что это божественный голос. Люди потеряли главный принцип общения — на языке сердца. На нем Адам говорил с Евой, Бог с человеком… Сердце говорит: «Когда не знаешь, как поступать, поступай по любви».
Сохнет гора сосновых бревен, сваленных на берегу Туры. Воздух потрескивает от жара. Мимо полей и мужского монастыря проходит спокойная трасса. В двух соседних деревнях есть лесопилки. На ржавых ножках у берега — голый рекламный щит. Он как будто говорит редким машинам: «Нам тут нечего вам сказать, проезжайте скорее, не нарушая покой». Ветхие дома Костылево стоят то вкривь, то вкось. В деревне домов немного, но семей, особенно молодых, здесь прибавляется. Кажется, горожане должны сторониться этого места, здесь их ждут безысходный покой и депрессия. Но они, наоборот, селятся здесь, привозя маленьких детей и рожая тут новых, будто прячутся от города, убегают от его демона, который, как верят монахи, здесь побежден окончательно и бесповоротно. Сами монахи практически не выходят из-за глухих ворот в мир — они живут на своей «горе» по афонскому уставу: ложатся спать в шесть вечера, просыпаются в полночь, читают правила, молятся, работают, каждую минуту и даже во сне отстукивая сердцем слова молитвы.
— Мой дед был муллой. И прадед тоже, — говорит игумен монастыря отец Петр, идя по узкой дорожке в сторону ангаров, стоящих за монастырем. — И я собирался стать муллой. Но, чем больше узнавал, тем больше понимал, что христианство — это другое. В исламе больше национальная традиция, ритуальность. Но если по-настоящему Бога искать, то на исламе не сможешь остановиться. Я понимал, что Бог — это любовь. Но я не видел так много любви в исламе. А христианство — это религия, которая живет любовью. Я интуитивно понимал: истина там, где есть монашество.
Навстречу ему идут женщины с колясками. Поравнявшись, просят благословения. Благословив, священник целует руки их младенцам.
— Депрессивный синдром проник в каждый деревенский дом, — говорит он. — И школа у нас дряхлая. Закрыть ее хотят, но не будет школы — не будет и деревни. Я хочу привить детям дисциплину и строгость чувств, подготовить их к внутреннему долгу. Разве это плохо?
У ангара его встречает молодой мужчина в легком плаще. Из-за его спины выбегает крошечная девочка в розовом. «Танечка», — монах опускается перед ней на корточки, ловит ее руку, почтенно целует. Танечка забегает в ангар первой и розовым комком носится по длинному коридору. Пахнет травами — иван-чаем.
Отец Петр заглядывает в мешки с кедровыми шишками. Их собирают монахи в лесу. В цеху и в монастыре из них варят варенье. Шишки гремят.
— А? Угу, погиб у нас монах — упал с кедра, — говорит он. — Да причем с такого, на котором дети учатся. Ощущение, будто он потерял сознание. Он не сопротивлялся, а обычно человек, когда падает, сопротивляется. С другой стороны, в монастыре привыкаешь к смерти, — он заходит в комнату, где на полках — сушеные ягоды. Берет их горстями, пробует, сосредоточенно пережевывая. — У нас и до того один монах умер, мой ровесник — сердце остановилось. Он сильно переживал… не мог себе простить, что ушел из монастыря, — берет в руку облепихи. — Он потом вернулся, но ходил с этой болью, которую пытался забить, загладить. Почему монах уходит из монастыря? — из его глаз уходит то выражение, с которым он смотрит на детей. Такими глазами можно смотреть на того, с кем сразился Симеон, но для этого надо быть игуменом монастыря. Бросив облепиху в пакет, он уходит.
— Когда я его подобрал на улице, — он оборачивается, не останавливаясь; полы рясы разметаются от быстрого шага, — в тяжелом состоянии, опустошенным, спросил — «Может, ты вернешься?» «А примете?..» Не всегда, поймите! Не всегда слова «хорошо» или «плохо» являются объяснением! Люди необъяснимы. В людях всегда есть двоякость! Вы будете холодный чай?
Он садится за стол. Там уже стоят четыре прозрачных чайника с холодным иван-чаем разных оттенков.
— Кто-то заварил его, как будто для нас… — говорит он, наливая в стакан. — Грех — это плохо. Но если ты думаешь, что с помощью греха станешь счастливым, то греши! Обязательно иди и греши! Но давай только по-честному — почувствуешь, что несчастен, возвращайся. Люди, к сожалению, не могут быть счастливы до конца. Монашество было призванием того брата, уйти для него — все равно что рыбе выброситься из воды. Почему вы смотрите на монашество в каком-то гуманистическом смысле? Монах — это как летчик: он летит и у него десятки систем, за которыми он следит. И если где-то монах допустил нерадение, процесс идет неуправляемо. Пока он не попадет в черную дыру, не разрушит себя полностью, не опустошится, пока не сгорит, пока не упрется в стену, не останется голым! Больным! Хромым… Это как притча про блудного сына. Уйдя от отца, он пришел в полное опустошение, он сказал: «Пойду к отцу своему и скажу, что не достоин называться сыном». А отец кинулся в ноги ему, стал обнимать, отдал свой перстень и одежду. Почему человек становится предателем? Стоп! Это бесполезно пытаться понять! — он выпивает половину стакана. — Вот у меня детство было тяжелым, родители сильно ругались между собой, а я был у них третейским судьей. Когда мне было десять лет, я подслушал их разговор, что они хотят развестись. Не знаю, что мною двигало, но я закричал: «Если вы разведетесь, то я завтра себя убиваю!». Они не развелись. Мама не пожалела. Папа не пожалел. Но… может, я пожалел? И вот я — уже молодой монашенок. Отец мой духовный Авраам говорит: «Напиши письмо своему отцу». А что мне писать? Правду. «Папа, — начал я, — почему мы так плохо жили? Я с тобой никогда даже не мог поговорить откровенно…». Отец Авраам читает и спрашивает: «Ты что, идиот? Глупость написал». И тогда я под сильным чувством написал отцу хвалебный акафист: «Отец, я так благодарен тебе за то, что стал тем, кем я сейчас есть. Ты для меня — самое главное». Тогда я хотел, чтобы так было. Но сейчас думаю: может, так оно и было? А он ходил с этим письмом и всем его показывал. Понимаете, в чем смысл? Я для себя заново родил отца. И он заново себя родил для меня. Он думал, что он плохой, а тут сын сказал ему такие вещи, — он отпивает половину чая от оставшейся половины. — А что детям нужно? Привить жажду быть счастливыми. Раньше я у них на исповеди спрашивал: «А не грешил ли ты?». И ребенок методично отвечал — «Да. Да. Да». Но… это — не настоящее. Настоящий духовный человек просыпается в двадцать пять лет. А до этого человек — ребенок. Приходит девочка:
— Как ты живешь?
— Прэ-крас-сно!
Не просто хорошо, а прекрасно. И что для нее лучше: чтобы она узнала, какая она плохая, как она капризничает? Чтобы узнала и начала натягивать на себя взрослое понимание греха? Или лучше в ней поддержать это состояние детского счастья? Поэтому я беру ребенка вот так, — показывает, как обнимает шею ребенка рукой:
— Посмотри на иконочку и скажи в душе: «Господи, прости меня за все». Только скажи по-настоящему, — шепчет, отодвигает стакан с недопитым чаем. — Никогда нельзя допивать стакан до конца, — говорит он. — Никогда нельзя общаться друг с другом до полного высказывания себя, всегда должна оставаться какая-то невысказанная часть, которая будет рождать что-то новое. Человеку всегда должно хотеться открывать новые двери. Если человек пресытится, он остановится, и это — момент смерти. В детстве не должно быть счастливой любви, она противопоказана! Иначе он во взрослой жизни будет жить вчерашним днем, а он должен все время встречать рассвет. Ребенок, будучи еще не искушенным, не имея еще выросшего чувства совести, испытав взаимную подростковую любовь, никогда не сможет насытить свою душу, он все время будет оборачиваться назад. Стакан надо раз — и забрать, — убирает все стаканы подальше. — Человек, еще не способный любить, не имеет права на любовь.
А я? Был ли я в детстве счастлив? Я говорил вам — нет. Но сейчас я живу детством. Да, своим детством! Да! Да, я ребенок! Вот представьте себе — ребенок! Я не хочу, чтобы это звучало глупо или чудаковато… И Господь как будто говорит мне: «Помнишь, ты хотел съесть яблоко, а я тебе не дал. Сейчас ешь. Сейчас насладись. А помнишь, у тебя тогда не было друзей? Я тебе их не дал. А теперь смотри, сколько друзей у тебя». Нет! Я не забываю своих страданий! Я, наоборот, благодарю за них… Допустим, в «Солярисе» есть такой танец…
Он кладет на стол телефон. Звучит металлическое: «Nothing else matters». Монах вскидывает руки, дирижируя танцем, который разыгрывается в его воображении.
— Лебедь больной выходит на сцену. Пытается дотянуться до роз — не может, ручки слабые. Падает на пол. Вылетает второй лебедь, кружит над больным, — рукава черной рясы взметаются, — пытается поднять больного. Но тот не может, — монах упирается ладонями в углы стола. — Второй лебедь не понимает, почему больной не может подняться, — отец Петр умолкает и молчит долго, застеснявшись и не зная — продолжать ли ему. («Мы так близки, неважно, что между нами расстояние. И все остальное — неважно», — поет в это время телефон.) — Второй лебедь, — собравшись, произносит монах, — пытается подстроиться под больного. И тогда он… — монах хватает себя за бороду, — он не выдерживает и вырывает из груди красную ленту. И больной вскакивает и кружит, кружит с этой лентой. А второй… второй падает… И тогда первый лебедь садится возле него: «Ну что ты?» А мораль? — лицо монаха снова становится строгим, а из глаз смотрит игумен. — Мораль, — строго произносит он, — невозможно спасти человека, не пожертвовав собой. Ты не имеешь права говорить «Я люблю тебя», если ты не можешь умереть за этого человека.
Гудит монастырский колокол. Монах опрометью убегает на службу.
— Я посмотрел всего Тарковского и понял, что хвалить его не за что, — отец Петр открывает ноутбук. Он сидит за столом монастырской гостиной. Под локтем — черная скуфья. За окном ночь. — Мастер бывает достоин похвалы, он ведь создал шедевр. А Тарковский… он ничего не сказал своего. Задача гения — передать то, что он сам не может осознать. Для этого он должен быть максимально прозрачным.
Монах, отслуживший только что долгую службу в монастыре, на которой присутствовали одни черные, монах, за спиной которого только что наглухо захлопнулись, едва приоткрывшись, монастырские ворота, смущаясь, сейчас читает стих под музыку. Таково начало сценария; в мастерской — домике по соседству с гостиницей — он скоро начнет разбирать его вместе с детьми.
— Оттиск старых сандалий простирается в гущу веков… — детским голосом декламирует монах.
Занавес открывается. За столом юноша двадцати четырех лет Крис Кельвин. Входит его отец.
— Ты улетаешь надолго, Крис. Мы можем больше не увидеться…
— Да, я хочу остаться на Солярисе навсегда. Голос непреодолимой силы зовет меня за пределы мироздания, отец!
— Холодный северный ветер… Когда взойдет звезда Аделаида, ты поймешь, что настоящее, а что — нет.
— Здесь аллюзия на притчу о блудном сыне, — поясняет монах. — Сын не нуждается в отце, сын не собирается отвечать отцу взаимностью.
Играет музыка. Голос Гребенщикова поет: «Не бойся стука в окно, это — ко мне, это северный ветер… Ты слышишь стук сердца — это коса нашла на камень. И нет ни печали, ни зла, ни гордости… Если взойдет звезда Аделаида».
На «Солярисе» сумасшедший человек нюхает розы и плачет. Трясется и плачет. Это — доктор Снаут.
— Я — Крис Кельвин! Прилетел с Земли!
— Хвала небесам! — восклицает Снаут. — Как долго ты летел, Крис!
— Я хочу видеть моего друга доктора Гибаряна. Надеюсь, он никогда не улетел.
— Не улетел. И не улетит…
— Что?! Несчастный случай?!
— Нет… Он всегда находился в глубокой депрессии! Доктор Кельвин, на станции нас всего трое — вы, Сарториус и я, но если вы увидите еще кого-то…
— Доктор Снаут, возьмите себя в руки! Все, что вы видели, — галлюцинации!
— Здесь я хочу подробнее остановиться, — монах отрывается от текста. — В этой сцене я хочу показать детям, как заносчива бывает юность. Мы сядем за стол и обсудим смысл каждого эпизода… Но сначала я должен вам кое в чем признаться! — он вскакивает, подходит к окну и смотрит на ночь через густой тюль.
За стенами монастыря уже проснулись монахи — ночь началась. Уже отстукивают их сердца под черными рясами Иисусову молитву. Братьев за стенами — несколько десятков. Они не молятся, только когда спят.
— Солярис — это пережитое мной в детстве, — начинает монах. — В первом классе я сидел за партой с одной девочкой, она была такая красивая, я был в нее влюблен. Она была балериной. А в четвертом классе к нам пришла другая девочка — Пеппи Длинныйчулок. Она мне понравилась, я захотел сидеть с ней и решил вытеснить ту девочку — Танюшу. Стал ее притеснять, щипать… Да-да-да, я, — шепчет он. — И чувствую, я подхожу к кульминационному моменту — она сейчас уйдет. Она сидела справа от меня. А… нет-нет, меня тогда не звали Петром. Я был Рашидом… И она так оглядывается и смотрит на меня своим тихим ангельским взглядом, улыбается и говорит: «Ну что ты?» И вот этот взгляд всю жизнь! Всю жизнь… «Ну что ты?» Найти бы эту девочку! Побежать к ней, попросить прощения! Ну хоть что-нибудь сделать, чтобы она меня простила… И вот я уже был в монастыре, я Богу служу, людей исповедую, а все равно вопрос: «Ну как я мог себе такое позволить?» А в один момент я почувствовал в себе рассуждение: «Господи, если бы можно было вернуть время, я бы обязательно вернулся туда и так не поступил». А Господь говорит: «Не вопрос! Возвращаю». — «Как?!» — «Возвращаю». И Господь возвращает мне ту Таню. Но только уже Таню по моим силам, по моему уму и по моим возможностям. Где же она? Да вот вы сидите передо мной! Треплете, бьете, а я понимаю — по делам. Это — епитимья! Меня поставили духовником в женском монастыре. Я должен был исповедовать сто двадцать сестер. Танечка вернулась, и я попросил у нее прощения. И каждый раз я заново переживаю эту Татьяну. То, что хочешь исправить, Господь возвращает… По Станиславу Лему, Крису явилась на Солярисе его жена, которая десять лет назад умерла из-за него — он довел ее до самоубийства. Я лишь адаптировал его фабулу для детей. Сейчас покажу…
Перед Крисом возникает голограмма доктора Гибаряна.
— Я должен был это сделать, Крис. Та сила, которая давала мне жизнь на земле, здесь, на Солярисе, заставляет меня отказаться от жизни…
Открывается дверь, входит девочка. Крис цепенеет от ужаса.
— Крис! Только ты можешь справиться с этим чудовищем! — кричит Гибарян, после чего его изображение пропадает.
Вслед за ним убегает и девочка.
— Еще час назад я казался себе единственным и неповторимым! — кричит Крис. — А сейчас даже дышать мне невыносимо!
— Понимаете, в чем смысл? — монах усмехается. — Каждому космонавту на «Солярисе» явилась его «Танечка». Татьяна, которую я обидел и которую Господь мне послал в виде вас! И я обязан терпеть все ваши особенности! Даже когда вы начинаете докучать…
Крис просыпается. Девочка стоит над ним.
— Откуда ты, Хари?
— Понятия не имею!
— Мне нужно идти! — Крис пытается убежать. — Не мешай мне! Я прилетел сюда, чтобы полностью отдаться работе!
— Крис! Но я! Я… чувствую какую-то непреодолимую силу, какое-то сильное желание всегда быть с тобой!
— Хари, как ты думаешь, где ты?! Сколько тебе лет?!
— Конечно же, я у нас в шко…ле… Мне четырнадцать… Я веду себя, как дура, да?! Ты опять будешь смеяться надо мной! Как тогда смеялся на школьном карнавале!
— Зачем ты мне напомнила об этом!
Крис открывает люк, сажает девочку в космический корабль, нажимает на кнопку и отбрасывает ее в атмосферу. Начинает звучать страшная музыка, похожая на пульсацию в запястьях тех, чье сердце никогда не билось в молитве. Появляются смутные человечки. Они садятся перед Крисом на колени, смотрят на него с восхищением. Вдруг все озаряется резкой вспышкой. Это сгорает в атмосфере Хари. Крис хватается за глаза.
— Как сильно болят глаза! Я ничего не вижу!
— Были гости? — появляется Снаут. — Здорово ты за них взялся. Глаза со временем снова начнут видеть. Я до сих пор не могу понять природу этого света… высшей степени насыщенности. Кто это был, Крис?
— Моя одноклассница Хари, все смеялись над ней. Нелепое платье, нелепые очки! На школьном карнавале я пошутил над ее очками. Всем было смешно. Один я заметил, что она вышла. Сердце дрогнуло, но ведь не мог я — лидер — беспокоиться о лягушонке! А потом… потом полиция сообщила, что неподалеку от школы нашла тело попавшей под машину школьницы. У меня все хорошо! — истерично кричит Крис. — Я десять лет говорил себе, что я — не убийца! Но сегодняшняя вспышка за бортом показала мне — я до сих пор живу на том школьном карнавале!
— Крис… она вернется. Потому что ты в глубине души этого хочешь.
— Я?! Я хочу этой душевной муки?! Этого ада?! …А к тебе кто приходит, Снаут?
Звучит музыка — нежный голос выпевает слова: «Песни у людей разные, а моя одна на века. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека». Появляются дети. Сверху падают игрушки. Снаут плачет, подбирает игрушки с пола, протягивает детям, трясется. Дети берут игрушки. Отбегают за кулисы. Швыряют оттуда игрушки Снауту — в лицо. Снаут рыдает.
— Что это?! — орет Крис.
— Это то, что должно было быть, — плачет Снаут. — А теперь мне остается только нюхать цветы!
— Фраза понятна? — спрашивает монах. — Что это было? Это то, что должно было быть. Те, кто должен был родиться. Почему они не родились? Вот вопрос — к Снауту… Что церковь хочет сказать? Искусство не дает прямых ответов. Если он… Снаут не хотел какого-то ребенка… Подросткам это должно стать понятно… Потом… Хари… Вы знаете, как переводится Хари? «Божья благодать». Когда она является человеку, она влечет его только к одному — к любви. Она постоянно говорит о любви. И так, и эдак, и с разных сторон. А он никак не может этого услышать! …Солярис показывает не Бога, если на то пошло. Солярис — храм. И когда мы подходим близко к алтарю, к благодати, в нас просыпается совесть. Совесть заставляет человека проговорить свою вину. Хари заставляет Криса проговорить вину. Почему я — монах — взялся так глубоко это разбирать? А потому, что тут много христианских смыслов. Находясь рядом с нами, наш ближний должен почувствовать себя больше человеком, чем он есть. Мир относится к человеку жестоко, как к зверю. Общаясь друг с другом в любви, мы должны напоминать друг другу, что мы — люди! Это и есть принцип любви, когда я рядом с человеком ощущаю себя человеком. Хари явилась Крису, чтобы сделать из него человека.
Крис вынимает из шкафа флакон с ядом. Засыпает с флаконом в руке. Появляется Хари. Подходит к нему. Забирает флакон.
— Хари, это ты? — просыпается Крис. — Почему я во сне один, а в жизни другой? Я так хочу стать одним целым.
— Я живая. Значит, и твое прошлое живо. Живо твое детство. Твоя юность. Выбирай сам, кем ты хочешь быть.
— Тебя я убил один раз, а себя убиваю десять лет. Ты пришла оживить мои муки. Твой свет напоминает мне о моей подлости.
— Свет только поначалу жжет глаза. А потом ты увидишь его другим. Только не бросай меня. Я должна всегда быть с тобой.
— Я больше не испугаюсь! Клянусь тебе!
Стук в дверь. Крис прячет Хари в шкафу. Хари сопротивляется.
— Он говорит: «Я не испугаюсь» и тут же поддается страху, — произносит монах. — Человеку стыдно обнажить свою душу. А фантом является из души. Он — совесть. Для того чтобы обнажить свою совесть перед другими, нужно иметь мужество.
— Доброе утро, Крис! — входит Снаут. — Сарториус уже ждет тебя в библиотеке. Кстати, фантом невозможно убить. Я пытался, — показывает перебинтованные руки. — Эти чудовища еще и крайне миролюбивы…
— Почему же ты тогда называешь их чудовищами?
— А ты когда-нибудь, Крис, ходил обнаженным перед людьми? А теперь представь себе состояние, когда обнажаешь не тело, а душу…
Снаут уходит. Крис открывает дверь шкафа.
— Крис, я для тебя чудовище! — плачет Хари. — Ты хотел бы меня убить!
Крис снова закрывает ее в шкафу. Она стучит, бьется: «Мне нужно быть с тобой! Мне нужно всегда быть». Крис уходит. Он появляется в библиотеке. Хари выламывает дверь.
— Я вижу, у вас неплохой экземпляр, — обращается доктор Сарториус к Крису. — И я вижу, вы вступили с ним в эмоциональный контакт. Это потеря чувства реальности. Предлагаю использовать аннигилятор, он убьет фантом.
— Но… она же — человек, — слабо возражает Крис.
— Что-о?! Что вы сказали?! Юноша, я вас предупреждаю, у вас и у вашего отца могут быть проблемы!
— А что для вас человек? — появляется Хари. — Я хочу жить и творить. Я люблю! Я — человек!
— Вы? Вы — лишь ксерокопия человека! Вы никогда не узнаете, что такое смерть, значит, вам и не дано быть причастной к жизни.
— Значит, доктор Гибарян, выбравший смерть, сейчас больше человек, чем вы! — кричит Хари. — А вы живете для смерти! Человек создан не для смерти! Пускай я — ксерокопия, но я рядом с Крисом становлюсь человеком!
— Давайте спросим у Криса, как он к вам относится.
— Я? Я… Она — копия! Она — не человек! — отвечает Крис.
Хари убегает. Сарториус торжествует.
— «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься», — произносит монах. — Крис предал. Он сказал правду. На самом деле он не солгал. Хари — ксерокопия. Но он солгал идее в самом себе, своей вере, — он предал себя. Он сказал: «Я не брошу», и он отрекся… И тут начинается танец лебедей.
Монах водружает на голову скуфью. Проговорив слова, сказанные Христом апостолу, он перестает быть ребенком и превращается в игумена. Строгим голосом сообщает, что сценарий еще не дописан, и это только его первая часть. Выходит в сырую ночь. Глухие ворота как по команде распахиваются перед ним и поглощают.
В семь утра автобус-буханка дребезжит по уральскому безлюдью. За рулем один из братьев. На окнах трясутся ажурные занавески. Салон полон детей. Самый маленький спит на руках у матери, женщины с грубым, потемневшим лицом, на котором отчетливо сохранились следы депрессивной молодости. Рядом с ней еще трое ее белокурых детей. В самом конце — все те же подростки, без спроса вбежавшие в автобус, когда тот встал на одной из остановок. Настенька, так отец Петр называет многодетную мать, окидывает их неодобрительным взглядом. Автобус трясется в село Меркушино, где находится скит женского монастыря.
В деревне буханку встречает белая церковь — царица всех деревенских домов, косых, присевших, черных. В 1918 году в Меркушино жил священник Константин двадцати одного года от роду. Крестьяне как-то взбунтовались, и большевики, чтобы деревню наказать, выбрали среди них жертву — Константина. Он шел на расстрел по той же дорожке, по которой сейчас едет буханка, и громко отпевал сам себя: «Упокой, Господи, душу раба твоего, Константина». Его мощи лежат в церкви. Подростки подходят к ним, едва зайдя, и заглядывают под стекло с любопытством. Из-за стеклянной крышки видны скрюченные, потемневшие, усохшие до размера детских ручки Константина.
После службы небо проясняется. А после трапезы буханка снова заводится и прыгает по дороге назад, по веселеющим на солнце холмам. Вдруг раздается хлопок. Густое белое облако заполняет по автобусу. Дети вскрикивают, плачут.
— Сейчас как руки оборву! — вскакивает Настенька. — Пошли вон все отсюда! Кому сказала!
Буханка замирает. Двери открываются. На зеленый луг вываливаются облако и — один за другим — дети. Подростки выходят последними, с опущенными головами. Монах заходит в салон. Выносит из автобуса баллон с огнетушителем.
— Что, руки чесались? — кричит женщина на подростков.
С безмятежным выражением лица монах садится на лужок, выпускает из баллона струю белого порошка, закручивает его. Возвращается в кабину, не проронив ни слова. Буханка снова трогается в путь. Плывут за окнами зеленые холмы, таинственные леса, высокое небо, дождик крапает на окна. Иногда на безлюдных обочинах вырастают высокие картонные фигуры святых. Их расставил тут отец Петр. Мелькнув, они исчезают, когда буханка, громыхая, минует их, оставаясь в глазах лишь светлыми вспышками.
Монах идет по серой тропке. В руке — черные четки, сплетенные из ниток. По бокам — хилые дома. Что бы монах ни делал, куда бы ни шел, его сердце всегда в молитвенной работе, отстукивает не переставая: «Господи Иисусе Христе, люблю тя». Исихазм — молитвенная практика сердцем и телом — хорошо освоена братией, живущей тут по афонскому уставу. За редким забором — одноэтажная деревянная школа с голубыми изразцами. Монах заходит во двор, аккуратно переступает порог, на котором сидит заблудившаяся или спрятавшаяся от дождя лягушка-ребенок.
Идет по школьному коридору. Останавливается у голландской печки, прикладывает к ней ладони, припадает сердцем. В коридор выходит директор — очень молодой человек, один из тех взрослых, что присутствовали на ночной литургии.
— Надо просто брать их за жабры, — негромко говорит монах, склонившись к директору в доверительной беседе. — Никогда нельзя идти чиновникам на уступки. На каждый ответ проси с них бумажку.
— Они же приехали и сказали: «Какое убожество ваша школа!» — обиженно замечает директор.
— Сначала сами не ремонтируют, доводят до такого состояния, а потом… Нет-нет, школу надо спасать, иначе и деревни не станет. Вот я пришел к ним в прошлом году — в управление образования Верхотурского района. Говорю: у меня два парня есть, оба военные, но с педагогическим образованием. «Замечательно! — отвечают. — Нам как раз нужны!» Говорю: дайте две ставки. — «Дадим. Через неделю позвоните». Через неделю приезжаем. «В январе приходите. Мы уже бюджет закрыли». Ну ладно, сам буду платить…
— Но нам-то на топливо для автобуса надо, — вставляет директор. — По закону нам обязаны дать. Сколько прошу — не дают. Не могут постоянно монахи возить детей.
— Вот это действительно нонсенс! — подтверждает монах.
Он выходит на улицу. По небу плывут облака. Он поднимает голову, поддерживая скуфью.
— Смотришь на облака, — говорит отец Петр, — а среди них есть нижние и дальние. Они в разные стороны плывут. Так же мышление человека — одна мысль в одну сторону течет, другая — в другую. Поэтому Крис спрашивает у Хари: почему я во сне один, а проснувшись — другой… Или эти подростки — гадкие утята. Меня очень расстроило то, что они сделали с баллоном, и я снова не понимаю, что заставило их встать так рано и поехать на службу. И вы знаете, наша задача — и церкви, и педагогики — повернуть все облака в человеке в одну сторону. Повернуть внутренние облака очень сложно. Ведь человек духовно родится, когда в нем это произойдет. Для этого Крису и явилась Хари —чтобы сделать из него человека.
Коментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.